– О ком, госпожа?
– О Нур-Султан, так ведь звали мачеху валиде?
– Да, госпожа, только к чему это вам?
– Расскажи! – строптиво потребовала Хуррем. Ей хотелось капризничать. Если спросила просто так, то теперь настаивала именно из каприза. Ее мало занимала какая-то там Нур-Султан, хотя уже слышала рассказы об этой замечательной женщине от Зейнаб.
Кажется, на нее хотела бы быть похожей валиде, но уж это Хуррем волновало мало.
– Я мало знала ее саму, к тому же давно это было… Но что знаю – расскажу.
– Только не пересказывай, как она в Москву ездила или хадж совершала, я и без того помню. Просто расскажи, какая она была.
Зейнаб начала говорить о том, чему НурСултан учила Хафсу: заботиться о сыне и надеяться на него, а не на мужа.
– Неправильно, потому что сама Нур-Султан так не делала.
Зейнаб вздохнула:
– Она не была валиде, ее сыновья после смерти их отца не могли ни на что рассчитывать.
– Почему хан Менгли-Гирей принял уже немолодую женщину с детьми и сделал ее своей женой?
– Не просто женой, госпожа, а настоящей советчицей. На ложе хан Менгли брал других красавиц, с которыми Нур-Султан уже не могла сравниться, потому что молодость ее прошла, но советовался всегда с ней. Никакого серьезного дела не начинал, пока с ней не обсудит.
– И военные?
– Военные нет, но переписку и с Московией, и со Стамбулом она вела. Умная женщина дружила с правителями! Здесь такое невозможно…
– Почему?
– Потому, госпожа, что Повелитель советуется только с Ибрагим-пашой, ему хватает.
Хуррем вдруг вскинула голову, задорно посмотрела на старую повитуху:
– А теперь будет со мной!
– Э… госпожа, чтобы с вами советовались, нужно знать столько, сколько знает Ибрагим-паша, а это очень много.
– Я тоже много знаю.
– Он другое знает.
Хуррем вздохнула:
– Я думала об этом, Ибрагим-паша умен, но он тоже знает не все. Думаешь, я зря купила Марию и столько с ней беседую? Повелителя интересует Европа, а Мария много знает, ее семья богата и влиятельна, в доме бывали многие художники, скульпторы, поэты…
– Кто?
– Ну, это те, кто рисует картины… Изображает людей на стенах или ткани.
– Повелитель интересуется этим?
Хуррем отмахнулась:
– Да, интересуется, но сейчас я хочу понять, почему правители переписывались с Нур-Султан. Что в ней было такое, из-за чего хан Менгли-Гирей не обращал внимания на ее возраст и внешность?
И снова Зейнаб повторяла все, что только знала и смогла вспомнить о Нур-Султан.
– Она писала письма сама?
– Не знаю, наверное, нет.
– Нужно самой! Я читаю хорошо, а вот пишу плохо. Найди мне переписчицу, умеющую красиво писать по-турецки и по-арабски.
– Можно у хезнедар-уста спросить или у кизляр-аги, в гареме есть переписчицы.
– Нет, у них я ничего спрашивать не буду! Найди переписчицу вне гарема.
Переписчица нашлась, она была в возрасте, но одного взгляда на маленькую, живую Пинар было достаточно, чтобы понять, что имя ей дали не зря, «Маленький источник» оказался весьма полноводным. Пинар не просто хорошо писала и ловко переделывала неуклюжие фразы, она еще и думала быстро и толково.
Пинар была бездетной вдовой, но брат, в доме которого женщина жила, вовсе не противился ее приработку написанием любовных посланий под диктовку знатных женщин.
Валиде и кизляр-ага, конечно, заартачились:
– К чему брать чужую, разве в гареме своих переписчиц мало? Вечно эта Хуррем чудит!
Но Хуррем только плечами пожала:
– Я буду платить Пинар из своих денег.
Сулейман удивился:
– Зачем тебе?
– Повелитель, я плохо пишу, приходится диктовать, а письма, написанные чужой рукой, все равно наполовину чужие…
Султан посмеялся:
– Ну, учись…
Она училась, высунув язык от старания, выводила букву за буквой. Но писала вовсе не письма, Хуррем переписывала книги и документы. Какие? А это была ее хитрость. Сулейман разрешил брать для переписки не только стихи, и подкупленный хранитель носил для Хасеки многие документы, о которых она и подозревать раньше не могла.
Хуррем не столько писала, сколько читала. Сначала она читала эти записки и письма, с трудом справляясь с зевотой, но потом стала понимать, о чем идет речь, вникать в суть. Первое время ей даже снились тысячи верблюдов из караванов с продовольствием, тюки с тканями и мешки с пряностями, просыпалась в холодном поту от того, что ничего не понимала в этих подсчетах.
Потом поняла: и не поймет. Ни к чему переписывать или зубрить цены на товары, запоминать, откуда что привозят, пытаться понять, какой товар в Бедестане для кого предпочтительней. Это все же дело Ибрагима, ему, как визирю, пристало заниматься организацией жизни в Стамбуле.
Постепенно Хуррем теряла интерес, по-прежнему училась красиво писать, но переписывала уже просто книги. Конкурировать с Ибрагим-пашой не получалось. Ибрагим прекрасно знал, что на деле привозится и продается, представлял, где находится та или иная провинция, чем славится и что собой представляет. А что она? Как можно изучать мир, не покидая пределов гарема?
Мария возражала:
– Есть монахи, которые не выходят из своих монастырей совсем, но пишут целые книги обо всем в мире. Госпожа, нужно читать не только записки бейлербеев или караванщиков, но и трактаты гуманистов, например.
– Кого?
– Тех, кто думает об организации государства.
Таких слов в лексиконе Хуррем не было, Марии пришлось снова и снова объяснять, в том числе и что такое государство. Это было тем более сложно, что служанка не знала таких слов по-турецки. На помощь пришла Пинар, она умела не только сочинять любовные послания от имени скучающих красавиц, но и разбираться в малознакомых текстах.
Зейнаб ужасалась: если кто-то узнает, чем занимается Хуррем вместо каллиграфии, им несдобровать. Когда люди не понимают происходящего, они начинают выдумывать гадости. Если увидят, что Хуррем читает и переписывает книги на чужом языке, непременно скажут, что это колдовские книги.
Она оказалась права, страстью Хуррем к необычным занятиям немедленно воспользовались.
В гареме знают все и обо всех. Конечно, бывают тайны вроде тех, которые хранила валиде, но обычно они зарождались вне гарема либо задолго до него. Скрыть что-то по эту сторону Ворот блаженства просто невозможно, кроме сотен любопытных глаз одалисок, готовых наблюдать просто от нечего делать, существовал еще присмотр евнухов, которые видели, слышали и даже улавливали носами все.
Хуррем что-то пишет!
Это не письма Повелителю, потому что они видятся почти каждый день, тогда что же? Разве может женщина так много писать, если она не переписчица? У самой Хуррем есть переписчица, тогда к чему ей умение водить каламом по бумаге? И воспользовались этим тоже быстро.
В гареме праздник – пригласили танцовщиц, надо же женщинам развлечься. Развлекаться намерены не только одалиски, но и сам Повелитель. Всех позвали смотреть. Хуррем одевалась с особой тщательностью, прекрасно понимая, что с нее глаз не спустят, разберут наряд по ниточке, а ее саму по косточкам. Все готово для выхода, осталось только тряхнуть головой, чтобы отбросить последние ненужные сейчас мысли и уверенным шагом направиться на всеобщее осуждение.
Этот лист, свернутый трубочкой и перевязанный красной ленточкой, Хуррем заметила сразу, едва бросив взгляд в угол, где обычно корпела над текстами под присмотром Пинар. Она не перевязывала свои бумаги красными ленточками, обычно это были зеленые или малиновые, такие любил Сулейман. Хуррем и сама не могла бы объяснить, что заставило стянуть, не развязывая, ленточку и надеть ее на один из своих листов, даже не глядя, какой именно, а тот, что был под ленточкой, бросить в жаровню и щедро присыпать сверху благовониями.
По комнате поплыл запах сандалового дерева и дурманящий аромат благовоний. Зато перебил запах горящей бумаги, лист занялся мгновенно.
Кивнув Фатиме: «Присмотри, чтобы сгорело полностью», Хуррем действительно тряхнула головой, вздохнула и вышла, гордо неся головку. Да, мала ростом, да, не щедра формами, лоб слишком высок, а глаза не слишком велики, но в глазах ум и смешинки, это гораздо привлекательней холодной безмозглой красоты.
Когда удалились от евнуха у двери, Гюль осторожно поинтересовалась:
– Госпожа, зачем вы это сделали?
Хуррем так же шепотом ответила:
– Не знаю. Что-то почувствовала. Это не мои записи, мало ли что в них…
Ей вдруг стало смешно: когда она попала в гарем, Гюль наставляла ее, кто есть кто, как к кому обращаться, как себя вести. Но вот теперь обращается «госпожа», потому что она действительно госпожа, а Гюль не стала даже гёзде. Не всем удается даже попасть на глаза Повелителю…
Хуррем вдруг решила, что Гюль нужно выдать замуж! Конечно, ей будет очень плохо без такой надежной служанки, но почему кальфа не может иметь мужа и детей? Хотя какой муж разрешит жене отсутствовать дома? Разве что евнух, который и сам все время в гареме…
Обычно кальфами становились уже немолодые служанки, приобретшие опыт и потерявшие надежду выйти замуж, но бывали и вот такие, как Гюль, – молодые, предпочитавшие посвятить жизнь своей госпоже, раньше бывшей подругой или подопечной. Гюль прекрасно понимала, что ее время прошло, в двадцать три года, не обладая потрясающей красотой, трудно надеяться на внезапную страсть Повелителя, к тому же она слишком ценила дружбу с Хуррем, чтобы даже подумать о таком. Нет, сердце Повелителя принадлежало Хасеки Хуррем, и этого Гюль даже в мечтах не посмела бы оспорить.
От мыслей о Гюль Хуррем отвлекло появление в зале султана. Повелитель всегда приходил последним, прекрасно понимая, что женщинам нужно дать время, чтобы обсудить (и осудить) наряды и поведение друг дружки. Конечно, Хуррем уже разобрали по косточкам, в очередной раз удивились странному вкусу Повелителя, избравшего Хасеки вот такую замухрышку. При этом перешептывании сам султан не осуждался, сплетницы неизменно приходили к выводу, что Хуррем просто околдовала Повелителя, с чем бороться, конечно, невозможно. Вывод: виновата она и только она!

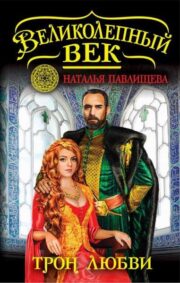
"Трон любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Трон любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Трон любви" друзьям в соцсетях.