— И надо быть готовыми ко всяким случайностям, — вставил другой.
— Осушение, действительно, обойдется дорого, но в данном случае иначе и быть не может.
Все трое — директор заводов, главный инженер и заведующий техническим бюро — совершенно сходились во мнении. Совещание происходило в рабочем кабинете Дернбурга, где последний обычно принимал доклады своих подчиненных; сегодня здесь присутствовал и его сын. Это была просто отделанная комната с книжными шкафами; письменный стол был завален бумагами, на боковых столах лежали планы и карты. Эта комната была центром управления всех громадных оденсбергских заводов, местом неустанной работы и беспрерывной деятельности.
— Так вы считаете, что по-другому сделать никак нельзя? — снова заговорил Дернбург, вынимая из лежащего перед ним портфеля бумагу и разворачивая ее. — Взгляните-ка сюда, господа! Здесь прокладка трубы начинается тоже с верхнего участка, но Потом она проходит сквозь гору Бухберг и уже без всяких затруднений идет через Радефельд к заводам. Вот решение, которое мы ищем.
Все с несколько растерянным видом поспешно нагнулись над чертежом; такой проект, действительно, не приходил в голову ни одному из них, по-видимому, они смотрели на него не особенно благосклонно.
— Прорезать Бухберг? — спросил директор. — Весьма смелый план, несомненно, представляющий значительные выгоды, но я считаю его невыполнимым.
— И я также, — присоединился к нему главный инженер. — Во всяком случае, чтобы узнать, возможно ли осуществить этот план, необходимы предварительные исследования. Бухберг…
— Будет прорезан, — перебил его Дернбург. — Подготовка к работам уже начата. Эгберт Рунек производивший там исследования, утверждает, что это возможно, и подробно излагает свои соображения в объяснительной записке.
— Так это его план? — спросил заведующий техническим бюро. — Я так и думал.
— Что вы хотите этим сказать, господин Вининг? — спросил Дернбург, быстро обернувшись.
Вининг поспешил его заверить, что он не хотел сказать ничего особенного; этот вопрос интересовал его только потому, что он был непосредственным начальником молодого техника. Остальные молчали, но смотрели на своего патрона странным, вопросительным взглядом.
Однако тот как будто не замечал этого и сказал спокойно, но с известной резкостью в голосе:
— Я решил принять план Рунека, он соответствует всем моим требованиям, а издержки будут приблизительно вдвое меньше, чем при выполнении ваших проектов. Отдельные детали, разумеется, надо будет еще обсудить, но во всяком случае следует приступить к работам как можно скорее. Мы еще поговорим об этом, господа.
Служащие поклонились и вышли; в передней директор остановился и спросил вполголоса:
— Что вы на это скажете?
— Я не понимаю нашего патрона, — ответил главный инженер, также осторожно понизив голос. — Неужели он действительно ничего не знает? Или он не хочет знать?
— Понятно, знает! Я сам докладывал ему об этом, да наш господин социалист и не думает оставлять в тайне свои взгляды; он говорит об этом без малейшего стеснения. Пусть кто-нибудь другой решился бы на то же здесь, в Оденсберге — ему сию же минуту указали бы на дверь, а об отставке Рунека, кажется, и речи нет! Вот и его план сразу же приняли, в то время как нам весьма ясно дали понять, что наши никуда не годятся. Ведь это, если хотите, возмутительно!
— Подождите еще, — спокойно перебил его Вининг, — в этом вопросе наш патрон не допускает шуток; в свое время он вмешается и, если Рунек не подчинится безоговорочно, — будь он хоть десять раз другом и спасителем его сына, — ему не сдобровать!
— Будем надеяться! — сказал директор. — Кстати, об Эрихе; он выглядит еще совсем больным и поразительно молчалив; на совещании он не сказал и десяти слов.
— Потому что ничего в этом не смыслит. Какими только знаниями его ни пичкали, но, очевидно, в его голове мало что застряло. Он ничего не унаследовал от отца ни физически, ни нравственно. Однако мне пора идти, надо съездить в Радефельд. До свидания, господа!
Отец и сын Дернбурги остались в кабинете одни. Первый стал молча ходить взад и вперед; несомненно, он был в плохом настроении.
Несмотря на свои шестьдесят лет, Эбергард Дернбург был еще в расцвете сил и только седые волосы и морщины на лбу свидетельствовали о том, что он уже находится на пороге старости; однако его волевое лицо не напоминало об этом, взгляд был еще проницателен и ясен, высокая фигура стройна; манеры и речь показывали, что этот человек привык повелевать и всюду встречать полное повиновение. Таким образом, даже внешность говорила о его сильной натуре.
Что сын не унаследовал от него ни одной черты, было как нельзя более ясно, а взгляд, брошенный на портрет в натуральную величину, висевший над письменным столом, до некоторой степени объяснял это обстоятельство; портрет изображал покойную жену Дернбурга, и Эрих был похож на нее как две капли воды; это было то же лицо с тонкими, но ничем не примечательными чертами, с теми же мягкими линиями и тем же мечтательным взглядом.
— Вот так, мои мудрые специалисты! — наконец заговорил Дернбург-старший насмешливым и раздраженным тоном. — Целый месяц возились над решением задачи, придумывали всевозможные планы, из которых ни один совершенно не годится, а Эгберт втихомолку произвел все нужные исследования и вдруг преподнес мне готовый проект, да еще такой проект! Как ты находишь его, Эрих?
Молодой человек смущенно посмотрел на чертеж, который держал в руках, и произнес:
— Ведь ты говоришь, что он прекрасен, папа. Я… извини, я еще не вполне разобрал, в чем дело.
— Но, мне кажется, он достаточно понятен и, кроме того, он у тебя в руках со вчерашнего вечера. Если тебе нужно так много времени, чтобы понять такой простой проект, к которому к тому же приложены всевозможные объяснения, то как же ты научишься быстро и правильно разбираться во всех делах? А ведь эта способность совершенно необходима будущему владельцу оденсбергских заводов.
— Я полтора года не был здесь, — заметил Эрих, — и все это время доктора настаивали, чтобы я избегал всякого умственного напряжения; будь снисходителен ко мне и дай мне время опять привыкнуть к делу.
— Тебя с детства жалели и всячески оберегали от работы, — нахмурившись сказал Дернбург. — При твоей болезненности о серьезном учении нечего было и думать, а о практической деятельности и подавно. Я возлагал все свои надежды на твое возвращение с юга, а теперь… Впрочем, я не упрекаю тебя, ты не виноват, но это — большое несчастье для такого человека как ты, ведь твое положение накладывает на тебя определенные обязанности. Что будет, когда меня не станет? Положим, у меня надежные служащие, но ведь они полностью зависят от меня и работают лишь под моим руководством. Я привык все делать сам и не выпускать из рук бразды правления, а твоя рука, боюсь, никогда не будет в состоянии удержать их. Я уже давно убедился в необходимости подготовить тебе помощника на будущее. Надо же было Эгберту именно теперь сыграть со мной такую злую шутку и запутаться в сетях социал-демократов! Это хоть кого взбесит!
Он сильно топнул. Эрих с некоторой робостью посмотрел на отца и тихо сказал:
— Может быть, дело еще не так плохо, как тебе сказали; директор мог кое-что преувеличить.
— Ничего он не преувеличил! Это ученье в проклятом Берлине погубило мальчика! Я забеспокоился уже тогда, когда он через каких-нибудь два-три месяца после отъезда отказался от денег, которые я давал ему на его образование, говоря, что сам как-нибудь заработает уроками черчения или другой работой. Я знал, что ему придется довольно-таки туго, но мне понравились его гордость и независимость, и я предоставил поступать, как ему угодно. Теперь я вижу, в чем дело! Уже тогда эти безумные идеи начали бродить в его голове, тогда уже были затянуты первые петли сети, в которой он теперь запутался; он не хотел принимать денег, зная, что, как только известие о его сближении с социалистами дойдет до меня, между нами все будет кончено.
— Я еще не говорил с ним, а потому и не могу судить об этом. Он в Радефельде?
— Он приедет сегодня, я жду его.
— Ты хочешь потребовать от него отчета?
— Конечно. Давно пора!
— Папа, прошу тебя, не будь слишком суров с Эгбертом! Разве ты забыл…
— Что он вытащил тебя из воды? Нет, но он забыл, что с тех пор был для меня почти сыном. Не спорь со мной, Эрих! Ты не понимаешь этого.
Молодой человек замолчал; он не смел противоречить отцу. Вдруг тот остановился и сердито сказал:
— У меня и без того голова полна всевозможными неприятностями, а тут еще ты со своей любовью и намереньем жениться! С твоей стороны было чрезвычайно необдуманно торопиться с помолвкой, не дождавшись моего согласия.
— Я думал, что могу заранее рассчитывать на него, и Вильденроде, отдавая мне руку сестры, думал так же. Да и что ты можешь иметь против моего выбора? У тебя будет прелестная дочь; кроме того, она богата, из уважаемой семьи, принадлежит к старинному аристократическому роду…
— Этого я ни во что не ставлю, — резко перебил Дернбург-старший. — Если даже твой выбор и вполне подходящ, ты должен был сначала спросить меня, а ты, прежде чем получил мой ответ, не только обручился, но даже позволил объявить об этой помолвке в Ницце. Так и кажется, что вы боялись протеста с моей стороны и хотели предупредить его.
— Да об этом и речи быть не может. Мои чувства к Цецилии были замечены окружающими, о нас стали судачить, и Оскар сказал мне, что во избежание недоразумения необходимо объявить о помолвке.
— Все равно, ты не должен был самовольничать. Впрочем, полученные мною сведения оказались вполне удовлетворительными. Я обратился за справками не в Ниццу, где путешественники останавливаются лишь на короткое время, а на родину Вильденроде. Их бывшие поместья теперь принадлежат королю, и гофмаршал дал мне все нужные сведения.

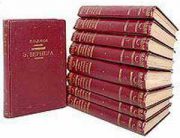
"Своей дорогой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Своей дорогой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Своей дорогой" друзьям в соцсетях.