— А Оскар? Он уехал, говорите вы? Куда?
— В настоящее время этого никто не знает, но во всяком случае вас он известит об этом. Однако вас это не касается, и любовь к вам вашего свекра не уменьшилась; он знает, что вы не заслуживаете упрека.
— Разве дело во мне? — горячо воскликнула молодая женщина. — Неужели вы думаете, что я могу спокойно жить в Оденсберге, когда мой брат опять блуждает по свету в борьбе с враждебными силами, которые уже сбили его с толку? Вы исполнили свой долг — пусть так! Что за дело такой железной натуре, как ваша, кого и что вы уничтожили при этом!
— Цецилия! — перебил ее Рунек, и в его голосе слышалась мука, которую он испытывал, слушая эти упреки; но молодая женщина продолжала с возрастающей горечью:
— Брак с Майей и ее любовь спасли бы Оскара, я знаю это, потому что в нем есть предрасположение к добру. Теперь он опять брошен в прежнюю обстановку, теперь он погиб!
— И виноват я, — вы, конечно, это хотите сказать?
Цецилия не ответила, но ее глаза с отчаянием и горьким упреком смотрели на человека, стоявшего перед ней с мрачным и непреклонным взглядом.
— Вы правы, — сурово сказал Эгберг. — Провидение осудило меня приносить горе и несчастье всем, кого я люблю. Человека, который был для меня более чем отцом, я вынужден был оскорбить и обидеть до глубины души; сердце бедной Майи я должен был смертельно ранить; но самое тяжелое для меня — то горе, которое я должен был причинить вам, Цецилия, и за которое вы осуждаете меня.
Он напрасно ждал возражения, Цецилия упорно молчала. Так же, как тогда, когда они стояли у подошвы Альбенштейна, слышался шум. Этот таинственный шум то усиливался и разрастался, то вдруг стихал и замирал вместе с ветром; только теперь это был шум осенней бури, яростно трепавшей полуоголившиеся деревья. Серые тени сумерек ложились на землю, а звуки, примешивавшиеся к завыванию ветра, не походили на мирный звон колоколов; это был далекий смешанный гул, слишком неопределенный для того, чтобы можно было решить, что это такое, тем более что буря часто заглушала его. Но вот ветер стих на несколько мгновений, и гул донесся яснее; Цецилия испуганно повернула голову.
— Что это? Это со стороны дома?
— Нет, как будто с заводов, — ответил Рунек. — Это голоса людей! Это крики разъяренной толпы! На заводах что-то случилось. Я должен идти туда!
— Вы? Что вам нужно там?
— Я буду защищать господина Дернбурга от его людей! Я знаю, как раздражены и настроены против него рабочие: если он теперь покажется… ему грозит опасность.
— Господи! — в ужасе вскрикнула молодая женщина.
— Не бойтесь ничего; пока я возле него, ни один из рабочих не приблизится к нему. Горе тому, кто решится на это!
Несколько минут тому назад Цецилия думала, что не может простить обвинителя ее брата, а теперь воображаемая ненависть вдруг исчезла под влиянием страха за него, за его жизнь; она быстро подбежала к нему и, обеими руками схватив его за руку, воскликнула:
— Эгберт!
Рунек остановился как вкопанный.
— Цецилия! Вы так зовете меня?
— Вы не станете намеренно раздражать толпу? О, вы ищете смерти! — вне себя воскликнула молодая женщина. — Эгберт, подумайте обо мне, о том, как я боюсь за вас!
В восторге от услышанного, Эгберт хотел привлечь к себе любимую женщину, но его взгляд упал на ее траурное платье и на могилу друга, и он только молча прижал ее руку к губам; однако светлый луч счастья не погас на его лице.
— Я буду думать и помнить об этом. Прощайте, Цецилия!
С этими словами он быстро исчез.
***
К вечеру оденсбергские заводы стали ареной бурных сцен. Старания начальства сдержать волнение и сохранить спокойствие при увольнении рабочих осталось без результатов вследствие вызывающего поведения партии, тайным руководителем которой был Ландсфельд и возглавлял которую здесь, на заводах, рабочий Фальнер. Сегодня руководитель социалистов счел нужным лично явиться в Оденсберг; он знал, что зависело от этого дня. Большинство рабочих уже опомнилось и решило завтра опять приступить к работе, подчинившись требованиям патрона; каково будет влияние их примера на остальных, можно было предвидеть; следовательно, надо было во что бы то ни стало устроить несколько стычек, которые сделали бы всякое соглашение невозможным. Добиться этого Ландсфельду удалось.
Заводы были переполнены шумящей толпой рабочих, которые пока только ссорились между собой. Фальнер и его приверженцы яростно осыпали бранными словами своих противников.
«Трусы! Изменники! Подлые собаки!» — слышалось вокруг, а те, к кому относились эти эпитеты, разумеется, не оставались в долгу. Они упрекали товарищей в том, что те силой заставили их принять решение, которое им и во сне не снилось. Кулаки пока не очень пускались в ход, но каждую минуту могло последовать кровавое столкновение, а тогда диким страстям возбужденной толпы трудно будет препятствовать.
Служащие выдерживали форменную осаду в здании дирекции; младшие сбежались из бюро и мастерских, теперь уже запертых, сюда, к своим начальникам, которые сами совершенно растерялись. Принятые меры не дали результата, и все взволнованно обсуждали, что нужно предпринять.
— Ничего не поделаешь, надо вызвать патрона, — сказал директор. — Он решил при необходимости вмешаться лично; я не знаю, что еще можно придумать.
— Ради Бога, нет! — воскликнул Виннинг. — Он не должен показываться; он настроен совсем не так, чтобы сказать им доброе слово, а если заговорит с ними резко, тогда всего можно ожидать.
— Да чего, собственно, хотят эти люди? — спросил доктор Гагенбах, пришедший сюда, полагая, что может быть надобность в медицинской помощи. — Кому они угрожают? Господину Дернбургу? Нам? Или друг другу?
— Этого они, по всей вероятности, и сами не знают, — возразил главный инженер. — Разве что их предводителю Ландсфельду это ясно. Говорят, сегодня он в Оденсберге, а потому мы можем с полной уверенностью ждать чего-нибудь серьезного.
— Именно поэтому я и не могу дольше брать ответственность на себя одного, — сказал директор. — Я извещу патрона, что мы потеряли власть; пусть делает, что хочет.
Он пошел к телефону, как вдруг шум снаружи прекратился. Он затих внезапно; наступила могильная тишина.
— Это патрон! — произнес Виннинг. — Я так и думал, что он придет, как только услышит шум.
— Но какой у него вид! — тихо прибавил Гагенбах. — Боюсь, чтобы не случилось чего недоброго.
— Надо открыть двери, чтобы он мог скрыться здесь в случае нужды, — сказал директор, также поспешно подошедший к окну. — Он ведь один, даже Вильденроде нет; мы должны выйти к нему. Скорее, господа!
Дверь, запертую изнутри, открыли, но ни они не могли пробраться к хозяину, ни он к ним; их разделяла плотная толпа, занявшая всю площадь перед домом; попытка директора и его коллег пробить эту живую стену оказалась безуспешной; стоявшие ближе к ним рабочие приняли такие угрожающие позы, что они попятились, не желая еще больше разозлить толпу, так как это тотчас обратилось бы против Дернбурга.
Последний воспользовался узкой боковой дорожкой от господского дома к зданию дирекции, минуя заводские корпуса; никто не видел, как он прошел, и теперь он вдруг точно вырос перед рабочими из-под земли. Каким авторитетом он пользовался, показала эта минута: одно его появление уже подействовало на возбужденную толпу, и она вдруг притихла; все смотрели на высокую фигуру человека, стоявшего перед ними с мрачно сдвинутыми бровями, и все ждали его первого слова. Он медленно обвел взглядом толпу, которая когда-то повиновалась одному его знаку, а теперь так встречала его, и все еще молчал; казалось, голос отказывался служить ему.
К несчастью, Ландсфельд и Фальнер были недалеко; предводитель социалистов находился перед зданием дирекции, где заперлись служащие; там же собрались самые ярые из его приверженцев. Появление Дернбурга, по-видимому, ничуть не удивило его и не было для него нежелательно; наоборот, его глаза блеснули как будто удовольствием, и он тихо сказал Фальнеру, постоянно находившемуся возле него как бы в качестве его адъютанта:
— Вот и старик! Я знал, что он не станет спокойно сидеть в четырех стенах, когда на его заводах начнется потеха. Теперь дело пойдет на лад!
Наконец Дернбург заговорил твердым голосом.
— Что значит этот шум? У вас нет причин поднимать его; вы заявили о своем желании прекратить работу — я запер мастерские и буду держать их закрытыми. Вы получили жалованье, идите же по домам!
Рабочие остолбенели; они привыкли к короткой и повелительной речи своего хозяина, но этот презрительный, ледяной тон они слышали от него впервые.
Ландсфельд нашел это мгновение подходящим для своего личного вмешательства.
— Ты вместе с остальными поддержишь меня! — быстро приказал он Фальнеру и затем, не долго думая, направился к Дернбургу.
— Дело не в жалованье, — заговорил он с вызывающим видом. — Чего требуют от вас рабочие, вам было уже сообщено: несправедливо уволенные рабочие должны быть…
— Кто вы? Кто дал вам право вмешиваться? — перебил Дернбург, хотя хорошо знал говорившего.
— Мое имя Ландсфельд! — последовал надменный ответ. — Я полагаю, этого достаточно для оправдания моего вмешательства.
— Нет, потому что вы не принадлежите к числу моих рабочих; вмешательства посторонних я не потерплю. Оставьте Оденсберг сию же минуту!
Приказание звучало гордо и презрительно. Ландсфельд смерил с ног до головы человека, против которого сейчас были настроены все и тем не менее осмелившегося так говорить.
— Такого требования я не выполню, — язвительно возразил он. — Я здесь по поручению своей партии, которой не безразличны дела Оденсберга. Товарищи! Признаете ли вы меня своим представителем? Могу ли я говорить от вашего имени?

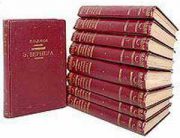
"Своей дорогой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Своей дорогой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Своей дорогой" друзьям в соцсетях.