В пасмурное октябрьское утро перед гостиницей Вильмана стоял полузакрытый экипаж доктора Гагенбаха; сам доктор со своим племянником сидел в уютной хозяйской приемной на верхнем этаже, куда поселяли лишь избранных посетителей. Дагоберт собирался в путь; он должен был отправиться в Берлин для поступления в университет. По-видимому, жизнь в Оденсберге неплохо повлияла на молодого человека — он выглядел гораздо свежее и здоровее, чем весной.
Вильман тоскливо объявил доктору, что чувствует себя, бесспорно, лучше с тех пор, как стал строго придерживаться его советов, но едва не умирает с голоду. Гагенбах, к ужасу толстяка, велел продолжать тот же метод лечения.
— У вас сегодня большое оживление, — сказал он. — Внизу, в приемной, толкотня, как в пчелином улье. Я слышал, здесь устраивается большое собрание перед выборами и вообще у вас заседают социал-демократы со всего города. Во всяком случае то, что эти господа выбрали «Овцу», — добрый знак: это свидетельствует, по крайней мере, о их мирных намерениях.
— Господин доктор! Не насмехайтесь надо мной! Я просто в отчаянии! В прошлом году я выстроил для завсегдатаев новый зал; это самый большой зал во всем городе, и вдруг теперь эти нигилисты, эти революционеры и анархисты устраивают там свои собрания! Какой ужас!
— Если эти нигилисты внушают вам такой ужас, то зачем же вы принимаете их в своем доме? — сухо спросил Гагенбах.
— А разве я могу воспротивиться? Они разорят мою гостиницу, чего доброго, подложат динамит! Я не посмел отказать, когда Ландсфельд потребовал у меня зал. Я дрожал перед этим человеком, да, право, дрожал! Но кем окажусь я теперь перед остальными моими посетителями? Ведь они мне этого не простят. И что скажет господин Дернбург!
— По всей вероятности, ему безразлично, собираются ли социалисты здесь или где-то в другом месте, а знакомства с ним вы через это не лишитесь, ведь он никогда еще не останавливался у вас.
— О, что вам пришло в голову? В моем-то скромном доме! Оденсбергские господа приезжают всегда прямо на вокзал; но все служащие останавливаются у меня, и вообще я живу главным образом благодаря сообщению между Оденсбергом и городом и никак не желал бы…
— Ссориться с какой-либо партией! Что ж, это разумно! Говорят, сегодня будет выступать Рунек? Значит, в вашем большом зале не останется ни одного свободного местечка, и вы заработаете кругленькую сумму.
Вильман в ужасе поднял глаза и обе руки.
— Что мне заработок! Но не могу же я забросить свои дела в такие тяжелые времена! Я отец семейства, у меня шестеро детей.
— Ну, по вас не скажешь, что времена такие тяжелые, — насмешливо заметил доктор. — Кстати, в настоящую минуту вы поразительно напоминаете своего покойного двоюродного брата-пустынника; он точно так же горестно поднимал очи к небу. Пойдем однако, Дагоберт, пора, иначе мы пропустим поезд.
Он допил пиво и встал. Толстый хозяин проводил его до самого крыльца и еще раз униженно попросил сообщить Дернбургу, что он всей душой ратует за порядок, но в связи с тем, что дела у него идут из рук вон плохо, он, как отец семейства…
— Я скажу ему, что вы и в этом случае — жертва своей профессии, — прервал Гагенбах эту элегическую речь. — Можете спокойно продолжать дрожать и загребать денежки. У вас превосходное пиво, и, без сомнения, эти господа сумеют оценить его; оно настроит их на мирный лад и спасет вашу гостиницу, если вдруг дело дойдет до крайности.
Вильман укоризненно покачал головой в знак несогласия с таким мнением и с поклоном распрощался с гостями. Доктор и Дагоберт отправились на станцию, к которой уже подошел поезд. Шагая с племянником взад-вперед по платформе, Гагенбах напутствовал его:
— Очень прошу Тебя об одном — учись в Берлине прилежно и не затевай таких глупостей, как, например, этот Рунек. До Берлина он был вполне разумным человеком, а в Берлине попал в общество нигилистов. Говорю тебе, мальчик, если ты позволишь себе что-либо подобное…
Он сделал такое сердитое лицо, что Дагоберт испугался и, приложив руку к сердцу, воскликнул с трогательной искренностью:
— Я не пойду к нигилистам, милый дядя, право, не пойду!
— Да ты для них и не особенная находка, но, к сожалению, падок на всевозможные глупости. Я надеюсь, однако, что то твое бессмысленное стихотворение «К Леони» было первым и последним! А вот и свисток! Багаж у тебя? Входи же! Счастливого пути! — и доктор, захлопнув дверцу вагона, отступил.
Дагоберт с облегчением вздохнул, потому что в его боковом кармане покоилось длинное, трогательное прощальное стихотворение «К Леони». После первой неудачной попытки поэт не посмел лично вручить обожаемой особе излияние своих чувств и решил послать его по почте из Берлина вместе с уверением, что его любовь будет вечной, даже если между ним и предметом его страсти станет суровый свет.
Между тем Гагенбах отыскал начальника станции и спросил, не опоздал ли берлинский курьерский поезд.
— Нет, поезд придет по расписанию ровно через десять минут, — ответил тот. — Вы кого-то ждете?
— Молодого графа Экардштейна. Он должен приехать сегодня.
— Граф Виктор приедет? Но ведь говорили, что между ним и братом произошел окончательный разрыв тогда, весной, когда он так внезапно уехал. Значит, в Экардштейне плохи дела?
— По крайней мере, настолько, что пришлось известить графа Виктора; он единственный брат.
— Да, да… владелец майората не женат, — многозначительно проговорил начальник станции.
Гагенбах ожидал поезд не один; появился Ландсфельд с группой рабочих, которые, очевидно, хотели кого-то встретить и возбужденно рассуждали о предстоящих выборах. Наконец поезд прибыл; из него высыпало такое множество путешественников, что на платформе и в пассажирском зале началась суета.
Гагенбах шел вдоль поезда, высматривая графа, как вдруг увидел высокую фигуру Рунека, только что вышедшего из вагона. Оба остановились, и Рунек быстро сделал движение, как будто хотел подойти к доктору; но Ландсфельд уже заметил его и протиснулся к нему вместе с другими встречающими. Окружив со всех сторон, они шумно приветствовали его, а уходя с ним со станции, крикнули дружное «ура».
— Народный трибун плывет на всех парусах, — с досадой пробормотал доктор. — Милый сюрпризец преподнес он Дернбургу! Интересно узнать, какого мнения об этом наши оденсбергцы; они тоже тут и, как кажется, их немало.
Он ускорил шаги, потому что увидел графа Экардштейна, вышедшего из последнего вагона в сопровождении какого-то пожилого господина. Виктор тоже заметил доктора и поспешил ему навстречу.
— Надеюсь, ничего не случилось в Экардштейне? — торопливо спросил он.
— Нет, граф, состояние больного уже третий день без изменений, но так как я был на станции, то решил встретить и вас.
— Доктор Гагенбах, — обратился молодой граф к своему спутнику, — мой дядя, фон Штетен.
Гагенбах поклонился. Эта фамилия была ему знакома; он знал, что перед ним был брат графини Экардштейн. Штетен, протянув ему руку, спросил:
— Вы лечите моего племянника?
— Да, я был приглашен по настоятельному желанию домашнего врача; мой коллега не хотел брать всю ответственность на себя.
— Он совершенно прав. Известия, приходившие от него, были так тревожны, что я решил сопровождать Виктора. Дело серьезно?
— Воспаление легких всегда серьезно, — уклончиво ответил доктор. — Надо рассчитывать на сильный организм больного, но все-таки мы сочли своей обязанностью не скрывать от графа опасности, в которой находится его брат.
— Я вам очень благодарен за это, — сдавленным голосом сказал Виктор.
Он был бледен и взволнован; мысль о том, что, может быть, своего брата, с которым он расстался после ссоры, он увидит на смертном одре, очевидно, сильно мучила его. Пока Штетен подробно расспрашивал о состоянии больного, он почти все время молчал.
Перед станцией стоял экардштейнский экипаж, и доктор распрощался со своим собеседником, пообещав завтра рано утром приехать в замок. Затем он отправился в гостиницу, чтобы велеть своему кучеру готовиться в обратный путь.
В вестибюле гостиницы Гагенбах опять встретил Рунека и Ландсфельда, которые спрашивали хозяина, нет ли у него отдельной комнаты, так как им надо кое о чем поговорить. Эгберт поклонился доктору и нерешительно остановился, как будто сомневаясь, следует ему заговорить с Гагенбахом или нет; при этом он почти с робостью посмотрел на лестницу, наверху которой стоял Ландсфельд.
— Ну? — резко произнес тот.
Это междометие звучало более чем повелительно; оно выражало законное требование и решило исход. Молодой инженер упрямо закинул голову назад и подошел к доктору.
— На одно слово! Как дела в Оденсберге… Я хотел сказать… в господском доме?
Гагенбах холодно ответил на приветствие и сдержанно сказал:
— Как во всяком доме, в котором неожиданно появилась смерть. Вам, вероятно, известно, что молодой Дернбург умер?
— Да, я знаю, — сказал Эгберт. — Как переносит горе господин Дернбург?
— Ужасно, хотя старается не подавать вида. Но его железной натуры не сломить никаким ударом, и у него нет времени горевать — положение дел в Оденсберге и окрестностях требует его особенного внимания. Вам это должно быть известно лучше, чем мне!
Удар доктора не был отпарирован, и Эгберт невозмутимо продолжал расспрашивать:
— А Майя? Она очень любила брата.
— Она молода; в ее возрасте достаточно хорошо выплакаться и все пройдет. А вот госпожа Дернбург… она убита горем; я не думал, что она до такой степени будет страдать.
— Вдова Эриха? — тихо произнес Эгберт.
— Да! В первые дни она была в таком отчаянии, что я серьезно боялся за ее здоровье, да и теперь она еще плохо себя чувствует. Я никак не ожидал от нее такого проявления чувств.

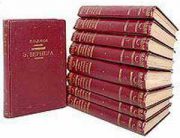
"Своей дорогой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Своей дорогой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Своей дорогой" друзьям в соцсетях.