– Не выпендривайся, – услышала я сквозь боль, – с кем ты вздумала тягаться?
Камеру, куда меня должны были поместить, определяла пенитенциарная комиссия. На тюремном языке я называлась уголовницей, то есть была лицом, лишившим жизни другого человека. Тюремное начальство в основном придерживалось правила, что в одной камере могло находиться одновременно не более одной уголовницы.
Впервые на меня надели наручники, когда выводили из зала суда. Мои опасения, что в коридоре на меня налетят фоторепортеры, слава богу, не подтвердились – поблизости не оказалось ни одного. Мое дело перешло в разряд уже отгремевшей сенсации – с того самого дня прошло два года. Про себя я его так и называю: тот день. Пани Воспитательница, просматривая папку с моим делом, оставила ее открытой на том месте, куда был подшит рапорт, составленный в день преступления неким Антонием Паёнком, сержантом.
В 22.15 я получил приказ от дежурного офицера центрального отделения милиции отправиться на место предполагаемого убийства мужчины, согласно полученному телефонному звонку. По прибытии на место я обнаружил следующее: квартира расположена в коттедже на улице Мальчевского… Дверь мне открыла женщина в нижнем белье – гражданка Дарья Калицкая-Конечная. В комнате на полу я увидел лежащего мужчину, рядом с ним валялся пистолет системы «вальтер» калибра 7.65.
Мною было установлено, что мужчина не подает признаков жизни. Он был полураздет, на рубашке виднелись следы крови. По рации я вызвал оперативную группу и до момента ее приезда осуществлял дополнительный осмотр помещения, а также предупредил женщину о необходимости оставаться на месте до приезда опергруппы. По документам, предъявленным гражданкой, мною была установлена личность не подающего признаков жизни мужчины. Им оказался муж женщины, Эдвард Конечный, сотрудник Института литературы Польской академии наук, если судить по печати в его удостоверении личности. Гражданка Дарья Конечная сообщила, что не имеет постоянного места работы и является по профессии писателем.
Трагедия двухлетней давности под пером сержанта Паёнка стала гротеском. Писательница в нижнем белье и не подающий признаков жизни полураздетый мужчина на полу… В действительности это была настоящая трагедия, напряжение которой с годами только нарастало, пока все не закончилось смертью одного из ее участников. Уже в тот день я отдавала себе отчет, какой жестокой насмешкой обернулся мой поступок. Тогда меня ничто не могло остановить. Одна только мысль об этом, само предвкушение давало удовлетворение, очищало наш союз от грязи, спасало нашу любовь. Но сам поступок стал лишь жалкой карикатурой этой мысли. В нем не было ничего возвышенного, он оказался результатом минутного помутнения рассудка, помешательства. Я тогда четко осознавала лишь то, что превращаюсь в кокон. С этого момента моя жизнь уже не будет похожа на ту, которую я вела в течение тридцати восьми лет. Возможно, она будет хуже, безобразнее, но наконец-то станет другой. Во мне всегда жило это страстное желание стать другой, бежать как можно дальше от женщины, которой я была до сих пор. Но, желая освободиться от себя прежней, я должна была устранить причину, из-за которой я стала такой. И этой причиной был он, Эдвард. Никогда прежде мне не приходила в голову мысль о подобном освобождении. Даже в самые страшные минуты гнева, когда не хватало воздуха и казалось, что я вот-вот задохнусь. Я ощущала это физически – комок в горле рос и уплотнялся. Вслед за этим меня охватывал панический страх, что еще минута – и мои легкие разорвет. Тогда мне хотелось только одного: чтобы человек, который был причиной моих мук, исчез навсегда. Только бы никогда больше не слышать его голос! В тот момент это было моим самым главным желанием. Возможно, оттого, что больней всего меня ранили его слова.
Однако я не предполагала, что отважусь на такой шаг, который прокурор, потребовавший приговорить меня к пятнадцати годам лишения свободы, позже назвал «предумышленное деяние», в чем мой адвокат не без успеха пытался разубедить состав суда.
– Высокий суд, – надрывался он на весь зал (наверняка слышно было даже в коридоре – ничего не скажешь, умелый оратор), – рано или поздно это должно было случиться. Моя подзащитная слишком часто подвергалась унижениям как моральным, так и физическим, – тут мэтр многозначительно поднял вверх указательный палец, – со стороны покойного, пока не наступил тот момент, когда в ней что-то сломалось.
Откровенно говоря, его защитная речь звучала наигранно, но, наверное, так и надо было, ведь все, что взято непосредственно из жизни, выглядит неправдоподобно. Чего стоили его метафоры типа: «Если человек приносит домой оружие, то он обязан считаться с тем, что это оружие когда-нибудь выстрелит. Об этом говорил еще в свое время великий русский драматург Антон Чехов!» Адвокат пытался таким образом сообщить, что оружие принес в дом именно Эдвард. Меня воротило от его высокопарных слов. Хотя я была подавлена, но не смогла отделаться от своей привычки оценивать сказанное с литературной точки зрения. Сидя на скамье подсудимых в окружении двух конвоиров, я все время ощущала себя участницей низкопробной комедии в постановке неведомого мне режиссера, решившего позабавиться за мой счет. Только кто был этим режиссером? Судьба? Бог? В буквальном смысле этого слова верующей я не была. По сути, это означало, что у моего Бога не было определенного лица. Он существовал скорее в виде световой энергии. Но зачем Он усадил меня на эту скамью? Почему не предостерег заранее? Я не отдавала себе отчета в том, что происходит на самом деле, хотя на первый взгляд все мои действия выглядели логичными. Пройдя из спальни в кабинет, я вынула из тайника пистолет, вернулась обратно и, сняв его с предохранителя, нажала на курок. Все это, проделанное в строгой очередности, не попадало под формулировку «действие в состоянии аффекта». Однако именно так и было – только звук выстрела и расплывающееся на рубашке Эдварда красное пятно заставили меня осознать, что произошло в действительности. Швырнув пистолет на пол, я бросилась к нему, чтоб спасти. Зажимая ладонью рану на его груди, пыталась остановить кровь. Он медленно опустился на колени, а потом как-то неловко, боком, упал на спину. Его зрачки вдруг расширились, в глазах мелькнул животный страх, который в ту же секунду стал моим страхом. Так происходило все восемнадцать лет, которые мы прожили вместе. Все рождавшиеся в этом человеке чувства и эмоции тотчас передавались мне.
Он хотел что-то сказать. Но это давалось ему нелегко. Я не отнимала своей ладони, боясь, что кровь хлынет ручьем. Что– то человеческое появилось в его взгляде, мне никогда еще не приходилось видеть у него такого выражения лица.
– Тебя посадят, – отчетливо произнес он.
Его веки начали судорожно подергиваться. Я чувствовала, что он умирает. Не знаю, сколько времени я просидела возле него, час или два. Потом подошла к телефону.
– Я убила своего мужа. – Меня саму удивило, каким спокойным тоном я это произнесла.
Милиционер, как потом выяснилось – сержант Паёнк, ходил по квартире, что-то выискивая, а я сидела в столовой на стуле, сосредоточенно глядя на свои руки, бессильно лежащие на коленях. Они выглядели мертвыми. На лестнице послышались шаги, и в квартиру вошли несколько мужчин. На одном из них был белый халат, из их разговора я поняла, что он – врач из «скорой помощи». Был среди них и тип с фотоаппаратом. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания, как будто меня вовсе не было. Меня это устраивало – внутренне я больше всего боялась, что придется войти в спальню, где лежал Эдвард, распростертый на полу. Я предчувствовала, что, если войду туда, мне больше не удастся сохранять спокойствие, которое было чем-то необъяснимым и для меня самой. Казалось, будто мне сделали холодный компресс изнутри. Я ничего не чувствовала. Не понимала, тепло или холодно в квартире. Не осознавала, в каком положении я оказалась. Моя голова, мой мозг были в каком-то заторможенном состоянии.
Наконец ко мне подошел один из приехавших со следственной группой и бесстрастным голосом сообщил, что я задержана на сорок восемь часов до выяснения всех обстоятельств преступления. Мне велели одеться и взять необходимые личные вещи. Только тут до меня дошло, что на мне надеты лишь короткая маечка на бретельках и трусики. Раньше я этого как– то не замечала. Мне стало стыдно. Мучительно стыдно оттого, что все эти посторонние мужчины видели меня раздетой. Не пойму, как можно было такое допустить. Я поплелась в ванную, но дверь мне закрыть не позволили. Видно, боялись, что я захочу покончить с собой. Один из них стоял и смотрел, как я одеваюсь, мечусь в поисках косметички, а потом кладу в нее пудреницу, зубную щетку, начатый тюбик пасты. Я спросила, нужно ли брать с собой мыло, на что карауливший меня мужчина никак не отреагировал, будто не слышал вопроса. Из ванной я вышла одетой в черный свитер и шерстяную юбку – в те вещи, которые до этого бросила в стирку. Не знаю, почему я натянула именно их. Почему не надела что-нибудь другое. Например, вещи, которые были на мне в тот день. Они лежали на полу в кабинете, рядом с брюками Эдварда: юбка и блузка. Наверно, я этого не сделала потому, что не хотела туда входить. Они спросили, не нуждаюсь ли я во врачебной помощи, не больна ли диабетом или астмой. Я ответила отрицательно. Наконец мы вышли на лестничную площадку. Я хотела запереть квартиру на ключ, как делала это сотни раз до этого, но один из них схватил меня за руку. Внезапно я ощутила себя бездомной. Мне показалось, что я всегда себя так чувствовала. Я жила в разных квартирах, но ни одна из них не принадлежала мне. Даже та, в которой мы жили с Эдвардом. Это был его дом, в котором он жил задолго до нашей свадьбы.
Меня отвезли в комиссариат. Там человек в форме велел следовать за ним. Мы спустились по ступенькам в полуподвал. Он распахнул дверь в крохотное помещение. Там был только настил из досок, похожий на продолговатый ящик. В двери – запирающееся снаружи окошко. Под потолком горела голая, засиженная мухами лампочка. Помню, меня это сильно удивило, потому что самих мух нигде не было видно. Может, попрятались, а может, слились с серо-буро-малиновым цветом стен и стали невидимыми. Теперь-то я знаю, почему у стен моей камеры был такой странный цвет: внутри помещение ни с чем не должно было ассоциироваться. Обезличенный кубик пространства.

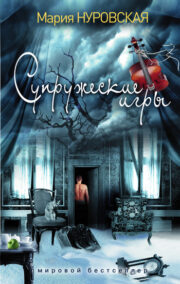
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.