Дома была Катя, дочка, которую двадцать два года назад он кормил по ночам из бутылочки, пока Арина, только что окончившая мединститут, сутками дежурила в больнице. Сейчас она стала взрослой, тонкой, похожей и на него, и на Арину, с узкими, светло-карими отцовскими глазами и выпуклым материнским ртом. То, как презрительно кривила она губы, давно говорило Владимирову, что Катя догадывается о происходящем и презирает отца за ложь. Она сидела за письменным столом в своей комнате, боком к нему, и свет настольной лампы ярко освещал ее лицо и красноватый локон на длинной шее. Она повернула голову, и ноздри ее, как быстро заметил отец, вдруг расширились. Он понял, что Катя почуяла что-то, как чует собака.
— Я скоро вылечу из института, — сказала его дочь и неторопливо заправила красноватые волосы за ухо. — К тому все идет.
Та простота, с которой она сообщила ему, что жизнь ее сломана им, была еще даже страшнее, чем ноздри, втянувшие запах отцовской измены. Он стоял под ее светло-карим сузившимся взглядом, как осужденные стоят на суде и ждут, пока им огласят приговор.
— Да, папочка, да, — с легкой иронией сказала она, встала, подошла к окну, открыла форточку и закурила. — Все очень понятно и все очень просто.
— О чем ты?
— У нас есть стукач один в группе. — Она затянулась, и красный огонь сигареты вдруг вспыхнул, как будто готовился к смерти. — Все знают, что это стукач.
Выбросила сигарету за окно, захлопнула форточку и снова вернулась на прежнее место.
— Он несколько лет назад не поступил и загремел в армию. А в армии стал голубым. Он хрупкий, как женщина, женоподобный. Вернулся из армии, вдруг его приняли. А он, говорили, на тройки все сдал. С какой такой стати они его приняли? Ну, вот и стучит. Сам висит на крючке.
— Зачем мы о нем говорим?
— А мы не о нем говорим, а о нас, — приподнимая брови, сказала дочь. — Сегодня он попросил у меня что-нибудь почитать. Ну, из твоего, из самиздатовского. Так прямо подошел и попросил. Говорит: «Вся Москва читает, а я никак не могу достать».
— А ты что?
— А я говорю: «Я сама не читала. Достанешь, дай мне».
И она засмеялась.
— Есть хочешь?
— Хочу.
— Ну, давай разогрею, — сказала она и вдруг вся покраснела. — А ты пока можешь помыться.
Можно было не услышать, что она сказала, и не заметить, как она покраснела, но он не привык избегать того, что приносит боль, и спросил:
— Что, потом так пахну?
— Не потом. Духами.
Ноги Владимирова приросли к полу.
— Прости, — всхлипнула она. — Прости меня, папа.
Он согласился бы на все что угодно: любые оскорбления, любые упреки, но только не на то, чтобы Катя смотрела на него так, как она посмотрела сейчас: с недоумением и жалостью. Прежде он никогда не сталкивался с ее жалостью, но знал, что она не могла быть наигранной, потому что ничего наигранного не было в Катиной душе.
В дверь громко позвонили три раза.
— Опять потеряла ключи! — воскликнула дочь. — Я сто раз говорила: «Носи запасные!»
Красная от холода Арина снимала в коридоре дубленку, которую купила на прошлой неделе у живущей на втором этаже Лиды Мухиной, дочери режиссера, обессмертившего в кинематографе «Сказку о шамаханской царице и черной курице». Семья Лиды Мухиной тоже испытала на себе трудности с цензурой: отец ее, старый, с львиною гривой, увлекся любовными сценами; будучи глубоко опечален наступившим своим возрастом, решил взять реванш хоть в искусстве: его шамаханка с фазаньей головкой уж так соблазняла все русское войско, что фильм положили на полку. Отец сперва долго боролся за правду, потом заболел и в конце концов умер. А Лида нырнула на дно — занялась спекуляцией.
Жена аккуратно повесила драгоценную одежку в стенной шкаф и сразу же прошла на кухню. Ресницы ее и волосы на лбу были мокрыми от растаявшего снега. Больше всего Владимирову хотелось запереться в кабинете и снова приняться за роман, потому что с романом его разлучали настойчивее и острее, чем с Россией и семьей, — с романом его разлучали, наверное, так, как Ромео с Джульеттой, и он был готов лечь в гробницу живым, но только чтобы не мешали писать.
Когда Баранович говорил ему, что в этой стране невозможно не лгать, он опускал глаза и даже не пытался объяснить Барановичу то, что понимал сам: а он понимал, что любое представление, которое складывается даже у самых близких людей о наших делах и о наших поступках, далеко от того представления, которое имеем об этих делах и поступках мы сами; но иногда представление других о том, что мы делаем, гораздо ближе к рентгеновскому снимку, в то время как наше собственное представление о себе похоже на очень расплывчатый оттиск.
С самого начала Владимиров старался не лгать. Но обстоятельства последнего времени складывались так, что избежать вранья никак не удавалось: если его не ловили на обмане внутри семьи, не намекали ему на его измену, как это только что сделала Катя, то нужно было врать там, куда его дважды уже вызывали, требуя объяснений. Он не лгал, когда на вопрос, как оказалась на Западе его рукопись, отвечал, что не знает. До вчерашнего дня он действительно не знал, но вчера ему прямо сказали, кто именно это сделал, и теперь, чтобы заслонить мальчишку, который передал его рукопись английскому журналисту, нужно будет продолжать упираться и разыгрывать из себя дурачка. Та ненависть к власти, которая сейчас разбушевалась в нем, не была неожиданностью, хотя прежде он ее никак не проявлял: она была частью души и стояла внутри неподвижно, как лес подо льдом. Он знал, что замерзнет, но все же тянул до последней минуты. Пока их терпенье не кончилось. Сажать не сажали, ссылать не ссылали, но выдавливали его, как, бывает, простой человек выдавливает чирей из-под кожи, захватывая его своими неумелыми пальцами.
Дверь в кабинет была закрыта, но Арина и Катя так громко разговаривали в коридоре, что он в конце концов перестал работать и прислушался.
— А я говорю, что сейчас ты никуда не пойдешь! — кричала жена. — Мы и так по уши в дерьме, зачем же еще добавлять?
— Что изменилось со вторника, когда ты не вмешивалась? — голосом, очень похожим на материнский, возражала дочь.
— Во вторник к тебе еще не подослали стукача и не было этого письма, которое твой отец…
Значит, они уже знают о письме. Он встал и вышел в коридор.
— Что у вас тут?
Он спросил негромко, но с той привычной властной интонацией, которая прежде давала им понять, что его работа требует тишины. Сейчас этот тон был нелепым.
Ни дочь, ни жена ничего не сказали.
— Катюша, куда ты идешь?
Катя насмешливо усмехнулась, взяла с подзеркальника сумку.
— Куда ты? — спросил он смущенно. — Почти уже ночь.
— Ну и что?
Арина махнула рукой и ушла на кухню. Катя застегивала молнию на сапогах, молния скрежетала и не поддавалась. В конце концов она так и оставила один сапог застегнутым до половины, исподлобья блеснула на отца глазами и хлопнула дверью.
Арина, жена, была рядом, и можно было спросить у нее, куда это на ночь глядя отправилась дочь, но он ничего не спросил, а опять вернулся к себе и сел за стол. Телефонных аппаратов в их большой квартире было два: у него в кабинете и на кухне, где Арина, чтобы не мешать ни ему, ни Кате, устроила себе маленькое пестрое царство: здесь цвели ее цветы на подоконнике, висел шкафчик с хохломой, стоял ярко начищенный самовар, который Владимирову подарили в Туле, когда он выступал там в городской библиотеке.
Телефон зазвонил, и они одновременно сняли трубки.
— Юра, включи радио, — пробормотал окающий бас Валерки Семенова. — Опять твое письмо читают.
Владимиров положил трубку на рычаг и пошел на кухню. Жена стояла спиной к нему.
— А я что могу? — вдруг громко и злобно вскричала она. — Ты с ним говори, не со мной!
Она обернулась на звук его шагов: лицо у нее пылало, и голубые глаза были точь-в-точь похожи на глаза только что пойманного зверя, какими они бывают в первые минуты неволи.
— Да, я уж включила, — сказала Арина Семенову. — Сейчас только громкость прибавлю.
«…нельзя закрывать глаза на то, — голос диктора так взволнованно выговаривал каждое слово, словно он был соавтором владимирского письма, — что дело писателя в той стране, которую я продолжаю чувствовать своей Родиной, далеко выходит за рамки его художественного творчества, поскольку ограничения, которые испытывает в моей стране писатель, не позволяют ему сосредоточиться на своем творчестве, что было бы естественным, а заставляют…»
Ударом ладони жена выключила радио, и диктор замолк, как будто бы этим ударом она ему выбила сразу все зубы.
— Скажи: ну зачем?
— Что значит «зачем»? — он сморщился. — Больше не мог.
— Другие же могут!
Жена опустилась на стул, прижала ладони ко рту, но тут же отдернула их. Лицо ее показалось Владимирову сильно подурневшим и как будто оплывшим.
— Хитрить научился, — сказала жена. — Уж все говорят мне про эту циркачку, а ты все молчишь!
Он не понял, почему она назвала Варвару циркачкой, но быстро догадался: первый муж Варвары, за которого она выскочила сразу после школы, был клоуном в цирке. Арина все знает, и даже про клоуна.
— Прости, что я скрыл от тебя.
— Вот это по-твоему! — вся огненно-красная, закричала жена и обеими руками разом подняла кверху свои кудрявые поседевшие волосы. — Вот так ты всегда отвечаешь! Не за то прости, что предал, а за то, что раньше не поставил в известность!
Она уронила руки, и волосы ее с размаху упали обратно на плечи, как будто они тоже крикнули что-то.
— Мне гадко. — Арина сглотнула слюну. — Так гадко, ты даже представить не можешь. Тошнит меня ото всего.
Владимиров опустился на табуретку и налил себе холодной заварки в красную керамическую чашку.

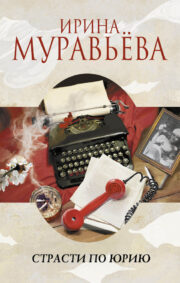
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.