— Что у тебя руки-то так дрожат? — вдруг быстро спросила Арина. — Смотри! Так прихватит — своих не узнаешь!
— Давай мы об этом не будем…
— Давай мы не будем. Давай разводиться. Как можно быстрее.
Много месяцев он готовил себя к тому, чтобы сказать ей о разводе, а сейчас, когда она сама заговорила об этом, Владимиров остолбенел.
— Ну что же ты так удивляешься, Господи! — вскричала она. — Что мы, первые, что ли? А ты вот ввязался в дурную игру! В опасную, Юра!
Владимиров опустил глаза. Этого он как раз и ждал от нее.
— Ты думаешь, что я за славой погнался?
— За бабой погнался ты, а не за славой! А все остальное само подоспело!
— Постой… Объясни! Ты про это письмо? При чем здесь она?
— Она? — повторила Арина. — Она ни при чем. Зачем ты, дурак, влез в политику? Какой из тебя диссидент? Все передеретесь, все переругаетесь, и этим все кончится! Вся ваша смелость! Ты на Барановича, Баранович на Солженицына, Солженицын на Винявского — да что говорить! А главное, будет ведь не до работы! Ведь ты ничего не успеешь же, Юра! Одни только письма и будешь строчить!
Он почувствовал в ее словах правду, но не это перевернуло его сейчас. Он понял, что жизнь их закончилась. Часы, честно отсчитывающие его время с Ариной, остановились, и наступила такая тишина, такое безмолвие вдруг наступило, что даже в природе такого не встретишь. Это только казалось, что он потерял ее из-за Варвары, которая заняла ее место. Ее места не занял никто. Она и Варвара находились по разные стороны души и не сообщались между собой, потому что жизнь с Ариной была в сосуде одного времени, а жизнь с Варварой — другого.
— Когда же ты хочешь со мной разводиться? — спросил он.
— Как можно быстрей, — прошептала Арина. — Пока ты еще что не выкинул… А то ведь на площадь пойдешь…
— А этих людей ты за что поливаешь? Они ведь собой рисковали…
Арина не дала ему договорить.
— Собой рисковали? Скажите на милость! Кто это себе такую роскошь может позволить: собой рисковать? Тот, кто ни за кого другого не отвечает! А это ведь люди с детьми! С малолетними! И им их не жалко! Давай мы не будем о них говорить, об этих героях. — Она перевела дыхание. — А ты, кстати, не знаешь, почему Солженицын не вышел тогда же на площадь? А почему он за Синявского с Даниэлем не заступился? Не знаешь? А хочешь, скажу? Потому что ему тогда не нужны были лишние неприятности, он книжку дописывал, очень все просто! И академик наш тоже не в монастырь пошел водородную бомбу замаливать, а сразу туда, где пожарче, где бьют барабаны! В тени не привыкли сидеть. И тихого дела не знают, не ведают.
— Вещаешь ты, как протопоп Аввакум… Ребенка с водой сейчас выплеснешь.
Арина быстро посмотрела на него.
— Ребенка не я, Юра, ты его выплеснул. Она тебе про стукача рассказала?
Он молча кивнул.
— Ну, видишь… — вздохнула Арина. — Тебе, Юра, лучше уехать из дому. Нельзя тебе жить сейчас с нами, не нужно.
Он ждал, что она это скажет, но, увидев, как Арина неестественно выгнула шею, словно последние слова причинили ей физическую боль, весь сжался внутри.
— Прошу тебя, Юра, — сказала жена. — Дай ей доучиться спокойно. Она уж и так комок нервов.
— Откажетесь вы от меня? — спросил он чуть слышно.
Она промолчала, потом опустила голову и, стараясь случайно не задеть его своим телом, ушла в спальню.
Владимиров допил холодный чай из красной керамической чашки, потом вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Открыл холодильник, увидел вареную картошку в кастрюле, сел на корточки и начал жадно есть ее обеими руками, обмакивая куски в солонку, которую поставил прямо на пол. Изнутри головы сильно давило на глаза, поэтому он погасил свет, сидел в темноте. Потом пошел спать, чувствуя, что не заснет ни на секунду, но заснул сразу же, как только, не раздеваясь, свалился на узкий и неудобный диван в своем кабинете. Его разбудили какие-то звуки. Со сна ему показалось, что в доме щенок, который скулит. Он встал и в наброшенном на майку пиджаке вышел в коридор. Звуки, похожие на щенячий скулеж, вырывались из спальни. Владимиров открыл дверь. Арина, голая, в одном белом лифчике, сидела на кровати и, обхватив голову обеими руками, плакала, скулила и взвизгивала так, как это делают щенки, только что оторванные от матери.
— Уйди! — продышала она. — Уйди, я кому… — И тут же разбудивший Владимирова звук снова вырвался из ее горла, и она захлебнулась в нем. — У-у-у-у-ю-ю!
— Ариша! — забормотал он, обнимая ее и укутывая своим пиджаком ее голое тело. — Ариша!
— Ю-ю-ю-ю! — Она пыталась сказать «Юра», но это изнеможденное «ю-ю-ю» срывалось на тот же самый невыносимый для слуха, беспомощный вой, тонкий, страшный и нежный, от которого Владимирову хотелось оглохнуть.
До сих пор ничего страшнее этой ночи в жизни не было. Арина, мокрая от слез и пота, стуча зубами, цеплялась за его плечи, руки ее соскальзывали, и он обнимал ее, прижимал к себе, слыша, как дико стучат оба сердца, и что-то пытался сказать, обьяснить, но Арина мотала головой, отдирала от себя его руки, потом приникала опять, и снова, как будто их что-то толкало, они вдруг вжимались друг в друга, не двигались, но тут же новая волна отчаяния обрушивалась из темноты, они разлеплялись, отодвигались по разные стороны кровати, и этот животный, неистовый вой опять разрывал ее горло.
Он знал, что если сейчас пообещать жене расстаться с Варварой, выдрать из их жизни последние два года, поклясться, что больше никто никогда не станет угрозой их дому, который Арина спасала, лечила, свивала, как птица свивает гнездо, — он знал, что одно только слово сейчас, она бы поверила сразу. Еще можно было солгать. Он молчал.
Наконец Арина оторвалась от него и, растрепанная, распухшая, в мокром от слез лифчике, расстегнутом и повисшем на одной бретельке, ушла в ванную, заперлась там, а Владимиров, сидя на развороченной постели, смотрел тупо в пол, на котором поблескивала выдранная из ее уха сережка. Потом он снова накинул на плечи пиджак и вернулся обратно в кабинет.
Проспал он, наверное, долго. День уже мутнел, темнел, заплывал болезненной слепотою, в которой, казалось, все движется ощупью: машины, троллейбусы, люди. Деревья прогибались под тяжестью налипшего на них снега, и когда этот снег вдруг с медленным шорохом рушился вниз, то обнажалась голая, черная и костлявая рука дерева, пугающая так, как может напугать протянутая рука нищего. В квартире было тихо, так тихо, что клекот батарей, обычно запрятанный в глубину других звуков, сейчас был отчетливо слышен. На полу в коридоре лежала записка: «Юра, я очень прошу тебя сегодня же уехать. В спальне — два чемодана с твоими вещами, я все собрала. Книги пусть пока останутся дома, иначе это займет у тебя слишком много времени. Мы с Катей сегодня ночуем на даче. Так лучше. Арина».
Его выводили из дому. Не он уходил, а его выводили, как школьника, за руку. Вещи собрали. Конечно: «так лучше». Дача была в Загорянке, и там, на даче, была печка, но воду нужно было набирать из колодца на соседнем участке, а печку топить отсыревшими за зиму дровами. Он представил, как Катя с Ариной приехали сегодня в это мертвое белое царство, где стоят заколоченные на зиму дома и светится только сторожка, как они разгребли снег, заваливший калитку, открыли ее, протоптали тропинку к крыльцу, прошли через незастекленную террасу, засыпанную снегом, из-под которого кое-где чернеет скользкая прошлогодняя листва, вошли в студеные пещеры двух комнат и, дыша морозным паром, начали готовиться к ночлегу. И Катя в своей черной шубке пошла за водою к колодцу. Он увидел руки ее в пестрых варежках, вытаскивающие длинное и узкое ведро и ставящие это ведро на обледенелую скамеечку, услышал чистый звук мерцающей воды, которую Катя переливала из узкого колодезного ведра в их старое, в беленьких крапинках, ведрышко. Ему стало нечем дышать. При этом он вдруг почему-то очень заторопился скорее уйти из дому, хотя впереди был целый вечер и целая ночь. Сначала он решил, что поедет в мастерскую, но мысль о том, чтобы одному ночевать сегодня в мастерской, по-детски напугала его. Уже стоя в пальто, он позвонил Варваре. Ее очень звонкий и радостный голос ответил сейчас же.
— Все, Варя, я еду, — сказал он негромко.
— Ты едешь? Ко мне?
Он почувствовал, что она просияла, увидел ее черные глаза, в которых изредка, как у кошки, вдруг вспыхивали голубые огни, грустно усмехнулся тому, как невольно забилось его сердце, как оно покорно шевельнулось навстречу этому радостному голосу, и твердая уверенность, что теперь уже ничего нельзя изменить, пришла к нему снова. Он надел пальто, обмотался связанным женою шарфом и с чемоданами в обеих руках спустился на первый этаж. Он спустился пешком, потому что в лифте можно было нарваться на знакомых. Консьержка, новая, только неделю как начавшая свою работу в этом доме, проводила его круглыми глазами.
— Вы в отпуск? — спросила она влажным басом.
Владимиров кивнул и, хлопнув дверью, вышел на улицу и сел в такси.
Наверное, все это время Варвара стояла у окна и смотрела вниз. Она видела, как подъехала машина, и вылетела из подъездной двери ему навстречу, не накинув даже пальто, а так, как была, в легком шелковом халате, привезенном из Японии ее недавно умершим отцом, халате, поразившем когда-то Владимирова своими дивными красками, оттенками синего и золотого, которые переливались и дрожали на ее невысоком ладном теле. Он еле успел расплатиться с шофером, как она уже набросилась на него прямо на улице, обняла своими горячими руками и тут же заплакала и засмеялась.
— Ты все там сказал? Отпустили?
— Нет, выгнали. — Он усмехнулся.
Она на секунду оторвалась, расширенными глазами всмотрелась в него, желая убедиться в том, что он не шутит, потом облегченно вздохнула.

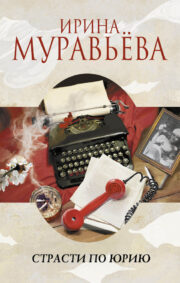
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.