После прихода доктора его уединение сделалось полным. Фремо, который исчез, наслаждался, вероятно, счастливой любовью с итальянской графинею… Однообразная и вялая жизнь длилась, не причиняя Марселю страданий от такого полного затворничества. Почтение к воле отца поддерживало его. Между тем здоровье его пошатнулось. В квартире на улице Валуа становилось жарко, а лето было крайне знойное. Сад, сожженный солнцем, издавал запах сухой пыли и горелых листьев. Деревья уже теряли свою листву, словно осенью. Голуби, воркуя, точно задыхались.
В начале июля он получил письмо от м-ль Руасси. Она повторяла приглашение г-на Руасси в письме кратком и радушном, написанном крупным почерком, открытым и смелым… Жюльетта Руасси! Он был тронут этим милым призывом к товарищу детства, которого она могла бы давно забыть… Но письмо оставалось на столе без ответа. Он как сейчас видел его голубоватый конверт, который держал в руках доктор Сарьян несколько дней спустя, приказывая ему на этот раз уехать немедленно из Парижа куда угодно. Он выслушал доктора Сарьяна с немым раздражением. По какому праву доктора своею волею подменяют нашу волю? Почему с таким упорством стремятся они заставить нас жить вопреки нашему желанию? Конечно, он не последовал бы его предписаниям, если бы как раз в это время старая Эрнестина не попросила разрешения поехать отдохнуть на месяц к родным. Положительно, все сговорились, чтобы выгнать его из дома. Но почему он выбрал именно Онэ?
Надо было проехать деревню, чтобы добраться до имения г-на Руасси. Крестьянские домики тянулись по бокам улицы до церкви, где надо было свернуть в крутой переулок, в конце которого шумела мельница. Оттуда надо было дойти до высоких ворот с остроконечной шиферной крышей и через них пройти во двор, поросший газоном и замыкавшийся с одной стороны стеной из битой глины, а с другой — зданием конюшни, над которым возвышалась голубятня. Прямо была решетка, отделявшая двор от дома, стоявшего наискосок. Дом состоял из двух флигелей, одного очень старого, из красноватого кирпича, где находилась кухня, и другого — более нового, каменного и одноэтажного. Перед домом была лужайка с цветными клумбами и огород с тремя площадками; к нему вел деревянный мостик, переброшенный через канаву. Канава соединялась с рекой, протекавшей за домом, и это кольцо воды замыкало собой рощу великолепных деревьев, которая была главной усладой Онэ, прохладной, зеленой и таинственной. Остальная часть имения состояла из лугов и нескольких участков пашни. Окружающая местность изобиловала дичью. Г-н Руасси любил охоту. Низенькая коляска и маленькая лошадка позволяли ему являться на приглашения соседей. Он охотно принимал их приглашения, приберегая для себя своих куропаток и зайцев и предпочитая истреблять в приятной компании чужую дичь.
Эта коляска была первым предметом, который увидел Марсель Ренодье, выйдя из вагона на станции Крез. Лошадь была привязана к забору. Молодой человек оглядывался вокруг себя, как вдруг он заметил м-ль Руасси. Он тотчас узнал ее. В смущении, он не знал, как заговорить с нею, когда она протянула ему руку со словами: «Здравствуйте, Марсель. Ваш поезд опоздал. Надеюсь, хорошо доехали, несмотря на жару? Дайте мне вашу багажную квитанцию…» И она быстро передала листок возчику: «Карлье, надо, чтобы сундуки этого господина были доставлены в Онэ до обеда… Идемте скорее, Марсель, можно спечься здесь на платформе…» Он покорно последовал за нею.
Выйдя со станции, девушка сама отвязала лошадь и поправила на сбруе застежку. Когда Марсель уселся рядом с ней, она спросила: «Удобно ли вам?» и они поехали рысью. Ехать надо было около часа. Несколько минут спустя она снова спросила: «Я вам не мешаю?» — «Нет, мадемуазель». Она стегнула по блестящему крупу лошади. «Мадемуазель? Вы с ума сошли, Марсель? Разве так говорят подруге по Тюильрийскому саду? Извольте называть меня Жюльеттой, или я опрокину экипаж!»
Довольно крутой подъем заставил лошадь идти шагом. Он припомнил это место. По сторонам дороги, в полях, изгибали свои ветви узловатые яблони. Теперь она заговорила с ним тихо, нежно, печально. Она говорила ему о смерти его отца, о том горе, которое он должен был испытывать. Г-н Руасси был также ею опечален. Он не мог приехать на станцию… Все в Онэ будут ему рады; он найдет здесь чистый воздух, отдых, тишину и свободу, какой только пожелает. Пока она говорила, малорослая лошадка подергивала ушами. Мухи жужжали. С высокой яблони упало яблоко средь шелеста листьев и веточек и глухо ударилось о сухую землю.
Жюльетта говорила правду. Г-н Руасси проявил радушие и гостеприимство, но совсем не упоминал о печальном событии, имевшем место в феврале: он избегал грустных разговоров. Г-н Руасси был милым эгоистом. Таким считал его г-н Ренодье. Г-н Руасси не скрыл от него в былое время причины своего переезда в Онэ: состояние его, сильно расшатанное, требовало от него этой жертвы. Не имея уже возможности вести в Париже ту жизнь, какую ему хотелось, он предпочел деревню, где ему должно было хватать его сократившихся доходов. К тому же он достиг возраста, когда приличествует быть благоразумным. О прошедших годах он сохранил слишком приятные воспоминания, чтобы по своей вине укорачивать то время, которое ему оставалось, чтобы перебирать их. Что касается его дочери, бывшей в то время еще в монастыре, то у нее, по выходе из Сакре-кёр, тоже найдется развлечение — разыгрывать хозяйку дома. Разве мало в этом занятия и забавы для особы, обладающей веселым нравом и превосходным характером? И г-н Руасси рассудил, вероятно, правильно, так как Жюльетта казалась вполне счастливой.
Марсель Ренодье сразу же оценил в молодой девушке ее природную склонность быть всем довольной, ее дар извлекать из всего приятное для себя. Это выражалось у нее тысячью способов, из которых самым обыкновенным был этот чудесный звонкий и веселый смех, который эхо разносило по дому и по саду. Она проявляла способность всецело отдаваться всему, что делала, какую-то исключительную пылкость. Если она читала, то читала со вниманием, которое ничто не могло нарушить; если работала, то работала с ожесточением; если она сидела, то сидела с наслаждением, готовая, казалось, навсегда так остаться. Она проводила иногда целые дни, причесываясь на разные лады, и тогда ничто не могло оторвать ее от зеркала. Она по двадцати раз переделывала букет или убирала вазу с фруктами, словно судьба всего мира зависела от этого соединения цветов или подбора плодов. Вместе с тем это постоянство и интерес к незначительнейшим вещам отнюдь не происходили от посредственности или мелочности ее ума. Она была умна, образованна, чувствительна, остроумна, с несколько, быть может, нарочитой податливостью к веселью, которое, однако, перемежалось у нее то неожиданным молчанием, то внезапной мечтательностью, что не было ни грустью, ни печалью, но какой-то немой и неподвижной сосредоточенностью, во время которой лицо ее принимало выражение необычной серьезности и особенной красоты… В эти минуты, — во время которых г-н Руасси старался всегда развлечь ее какой-нибудь шуткой, — молодая девушка больше всего нравилась Марселю; он чувствовал, как симпатия, робкая, скрытая и таинственная, сближала его с ней.
Тем временем Марсель Ренодье, размышляя обо всем этом, оделся. Тщательно умытый, хорошо выбритый, он посмотрел на себя в зеркало. И в самом деле, здоровье его поправлялось. К нему вернулись и аппетит, и сон. Загорелые щеки округлялись. Как, неужели этот Марсель Ренодье был тем самым, что и несколько месяцев тому назад? Неужели это лицо было тем лицом, которое орошалось слезами отчаяния? Неужели эти шаги, которыми он тихо бродил по аллеям рощицы в Онэ, были теми же шагами, что попирали жирную почву Холма Усопших? Внезапно он омрачился. Он снова увидел перед собой могилу отца, длинную белую плиту, словно страницу, вырванную из книги, вырезанное на ней имя, печальную дату… Ах, отец никогда не покидал его мыслей! Даже тогда, когда они, казалось, были отвлечены от него, они оставались все же втайне привязанными к памяти того, кто был их вдохновителем. Он не последовал жестокому совету Сириля Бютелэ. Воля, дорогая для него и чтимая им, постоянно направляла его волю. Его связывала с умершим боль утраты, которую он ощущал в глубине души так же остро, так же нестерпимо, как в первый день.
Он тихо притворил дверь своей комнаты и спустился по лестнице. Ему хотелось быть одному. Он не желал бы встретить ни г-на Руасси, ни Жюльетты. Он слышал ее голос в столовой: она предупреждала кухарку, что г-н Руасси будет завтракать сегодня ровно в полдень, так как днем ему предстояла поездка. Марсель, не показываясь, ускорил шаги и вышел. Очутившись на воле, он поспешил добраться до рощи. Сумрак тенистых аллей и шепот листвы успокоили его мало-помалу. Он стал ходить, наблюдая колеблющиеся листья. Он следил взглядом за прямой линией стволов до разделения их на ветви. Он вдыхал разные запахи и старался различить, исходят ли они от земли или от растительности, он видел цвета и отмечал их оттенки, он узнавал звуки. Бессознательная деятельность чувств мало-помалу заменила в нем определенные мысли. Так дошел он до старого моста. Расширение реки образовывало здесь водоем, в котором м-ль Руасси любила купаться. У воды был сооружен шалаш из кругляков и моха, где укрывалась молодая девушка, сбросив с себя Одежды. Сколько радости доставила бы такая хижина ему и Жюльетте в те времена, когда они строили дома из стульев в саду Тюильри! Он лег на траву в виду прозрачной воды. Одна из картин Сириля Бютелэ, некогда вызвавшая общее восхищение на выставке, изображала купальщиц резвящихся в таких же струях. Марсель покраснел и спросил себя: не было ли то хитростью его ума, чтобы свободнее думать о Жюльетте? Эти таимые мечты показались ему нескромными и грубыми, и он продолжал испытывать за них легкий стыд, когда за завтраком очутился рядом с молодой девушкой, в обществе г-на Руасси.
Г-н Руасси был шумно весел в это утро, кушал с аппетитом и торопливо опустошал свой стакан. Внезапно он поперхнулся. Жюльетта не могла удержаться от смеха. Г-н Руасси спросил, чему она смеется.

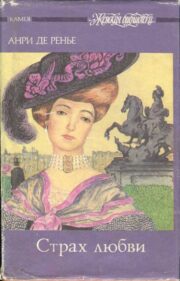
"Страх любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх любви" друзьям в соцсетях.