Он остановился на мгновение.
— Я очень бы хотел, дорогой Марсель, для вас что-нибудь сделать и думаю, что могу быть вам полезен в одном отношении, но это очень деликатный вопрос, и об этом трудно говорить… Но я все же решусь… Я очень любил вашего отца, но я опасаюсь, что он чересчур прочно внушил вам свою манеру мыслить и чувствовать, слишком глубоко внедрил в вас свое отношение к жизни. Я не раз беседовал с ним на эту тему. Он раздражался моими возражениями. Он думал предостеречь вас таким образом от обманчивого призрака счастья и избавить от разочарований, которые он за собой влечет. Ваш отец считал своим долгом дать вам возможность воспользоваться его опытом: без этого, думалось ему, он оставляет вас безоружным и беззащитным. Он хотел, формируя ваш ум по образцу своего, остаться в вас и после смерти, и я боюсь, очень боюсь, что он в этом вполне преуспел.
Марсель Ренодье слушал художника, опустив голову. Он признавал истину его речей. Бютелэ продолжал:
— Смерть любимого существа — минута страшная. Он умирает для наших глаз, но возрождается в нашей памяти. Он овладевает в ней своим местом, проявляет в ней свое лицо, утверждает свою власть. С этой минуты определяются отношения, которые установятся между ним и нами. Как видите, это — минута решительная: минута, когда то, что будет нашей жизнью, отделяется от того, что было его жизнью… Себя или его будем мы продолжать? Ах, я хорошо знаю, что любовь, уважение, привычка побуждают нас подчиниться ему. Итак, пусть он управляет нашими мыслями и нашими поступками. Так! Но ведь это значит отказаться от самого себя и отстраниться от жизни… И вот к этому вы сейчас пришли.
Сириль Бютелэ оживился.
— Вы мне скажете, что вы заранее достаточно хорошо знаете, что такое жизнь, что вы не стремитесь попытать в жизни счастья, что вы подчиняетесь лишь тому, что в ней необходимо, и что вы не любопытны к ее возможностям… Это ваше право, ограничивать ваше соприкосновение с жизнью, но подумайте прежде, чем пользоваться этим правом, которое вы считаете отчасти как бы обязанностью и почти долгом чести. Не решайте своей судьбы, руководясь лишь одной чувствительностью или голосом совести. Не будет неблагодарностью по отношению к самому дорогому прошлому — отвести ему его место в вашей памяти, ограничив его участие в ваших поступках и мыслях… Вот то, что я хотел вам сказать и что сказал бы в присутствии вашего отца, если бы он был здесь.
Марсель Ренодье поднял голову.
— Я не философ, дорогой Марсель, и не собираюсь доказывать вам, что жизнь плоха или хороша в целом. Разумеется, я знал тяжелые минуты, страдал, стремился, сожалел. У меня были поводы жаловаться на людей, и все же меня огорчает, что я старею. Что бы там ни было, природа всегда с нами, с ее формами, красками, ароматами.
Сириль Бютелэ смотрел прямо перед собой, и лицо его утратило выражение усталости. Он подошел к мольберту. Стекло монокля приподнимало дугою его нервную бровь. Большим пальцем своей худой и ловкой руки он коснулся на полотне сладострастного образа. Марсель смотрел на него, помолодевшего и выпрямившегося, меж тем как снизу, сквозь полуоткрытую дверь мастерской, вместе с молодым смехом доносились солнечные звуки итальянского говора, подобные радостному щебетанью птиц…
Возвращаясь домой от Бютелэ, Марсель Ренодье вошел в сад Пале-Рояля. Стояли первые дни апреля. Несколько нежно-зеленых листочков распустились на ветках. Голуби перелетали и садились. Марсель опустился на скамью. Слова Сириля Бютелэ смущали его. Как, ему надо освободиться от влияния отца! Разве мало было разлуки через смерть? Отец учил его не доверять людям, и вот явился человек, советующий ему не доверять тому, кому он обязан этим недоверием. Нет, это было бы предательством, да еще предательством по отношению к умершему. Как осмелился Бютелэ дать ему подобный совет? К тому же разве отец его не был прав? Жизнь дурна. Тщетно, в образах людей и вещей, предлагает она нам видимость счастья и иллюзию наслаждения. Конечно, тело той нагой девушки было нежно и восхитительно; конечно, сладок был этот час в саду, уже почти весеннем, под этим чистым и затуманенным небом, по которому тихо проносились в наклонном полете тяжелые и блаженные голуби, — и тем не менее он чувствовал себя охваченным грустью, которая подымалась из самых недр его существа и которая была, как он ощущал, глубока, непобедима и бесконечна.
V
Солнечный луч, упавший на комод, медленно передвигался. От него темный лак старинного пузатого комода становился прозрачным, как черепаха, и оживлялась красноватая позолота китайских фигурок, корчивших странные гримасы. От мандарина с гибкой косой подвижный луч перешел на воина, потрясающего кривой саблей, заблестел на спине черепахи, потом осветил дерево с узловатыми ветвями и загнутую кверху крышу пагоды.
Марсель Ренодье полузакрытыми, заспанными глазами наблюдал передвижение солнечного луча, как вдруг комната наполнилась ярким светом. Полуприкрытый ставень только что был открыт снаружи концом длинной жерди, которой мелкими сухими ударами постукивали по стеклу, между тем как снизу доносились взрывы смеха.
Марсель Ренодье откинул одеяло. Жердь появилась снова, с легкой соломенной корзинкой на ее вилообразном конце, и одновременно веселый голос назвал его по имени:
— Марсель, Марсель!
Он поспешно набросил пиджак.
— Марсель, ленивец! Уже девять часов. Так как вы не спускаетесь вниз, то приходится посылать вам завтрак… Подойдите, по крайней мере, чтобы взять его… скорее, скорей!.. или я уроню…
Он подбежал к окну и распахнул его. Корзинка покачивалась в лучах солнца. В то время как Марсель протягивал руку, крупный персик, лежавший поверх других фруктов, покатился и упал. Смех еще более усилился. Молодой человек схватил корзинку, откидывая со лба спутанные за ночь волосы.
— Ни к чему вас спрашивать, хорошо ли вы спали… Боже, до чего вы смешны!
Марсель перегнулся за подоконник.
— Благодарю вас, Жюльетта… А вы как себя чувствуете?
Стоя внизу, м-ль Руасси смотрела на него. Белая стена, освещенная солнцем, заставляла ее слегка щурить глаза под широкой соломенной шляпой. Марсель видел ее прелестное веселое лицо, чудесные его краски, прямой и тонкий нос, полные губы. Лукавство и молодость делали ее еще прекраснее. Это нежное лицо дышало радостью жизни. Марсель любовался также круглой шеей, стройными плечами, высокой грудью; кожаный пояс стягивал гибкую талию.
— Марсель, я прошу вас обратить внимание на сливы.
Она прищелкнула языком с выражением лакомки.
Она была очаровательна, стоя на солнце. Вокруг нее сверкал песок аллеи, и тень ее лежала на нем, словно бархатная. Цветы на клумбах благоухали. Две бабочки летали над нежными петуниями. Слышалось журчанье речки, протекавшей за кустами сирени, а на другом берегу высокие тополя, стоявшие в ряд, трепетали, показывая серебристую изнанку своих листьев. М-ль Руасси угрожающе помахивала своей длинной жердью, резавшей нагретый уже воздух своим прохладным свистом.
— Одевайтесь же, Марсель! Стыдно долго лежать в постели в такое утро, как сегодня! Вам давно уже следовало выйти на воздух и гулять. Уже больше месяца, как вы живете в Онэ, а все еще не научились жить по-деревенски!.. Я уже успела сделать множество дел; я встала, когда еще не было шести часов… Да, да!.. Я выкупалась у старого моста. Вода холодная-прехолодная! Это было чудесно…
Перед Марселем промелькнуло видение этого купанья в прозрачной воде, заглушенное журчание которой слышалось за деревьями вместе с трепетом тополей, словно посеребренных ее отблеском.
— Да кушайте лучше ваши фрукты, бедный Марсель, вместо того чтобы слушать мою болтовню. Я ухожу… Ах, жалко оставить такой чудный персик!
Она нагнулась и подняла персик, выпавший из корзинки. Несколько песчинок впились в его бархатистую кожицу: она осторожно удалила их кончиком ногтя, повертела плод между пальцев и решительно закусила его округлость. Сочная мякоть растаяла под ее белыми зубами, потом, когда осталась одна лишь косточка, Жюльетта со смехом бросила ею в Марселя. Стекло зазвенело от удара. Молодой человек нагнул голову. Когда он поднял ее, м-ль Руасси исчезла за углом дома.
М-ль Руасси была права, рекомендуя Марселю лежавшие в корзинке сливы. Они были сочные и сладкие. Он нашел их превосходными и с грустью отметил, что, вкушая их, испытывает удовольствие. Что же означали эти внезапные затишья в его горе, которые он замечал в последнее время? Откуда эти кратковременные перерывы в воспоминаниях? Не были ли началом забвения эти повторные исчезновения скорбной мысли? Сегодня, проснувшись, он не думал ни о чем, забавляясь игрою солнца на старинной лакированной мебели и на позолоте китайских уродцев. Теперь его внимание привлек вкус плода. Ему стало стыдно. Он упрекал себя за то удовольствие, которое доставила ему внешность м-ль Руасси. Иное лицо должно бы было занимать его мысль! Ах, тоскующее лицо отца! Оно должно было стать для него навсегда лицом всего мира! Он чувствовал себя виновным в какой-то душевной грубости. Но тогда к чему было бежать одиночества, к чему было ехать в Онэ?
С середины июля он гостил у г-на Руасси, так как ему поневоле пришлось покинуть Париж. Он не мог больше выдержать. Уже в последние дни мая, перед отъездом в Венецию, Сириль Бютелэ, прощаясь с ним, нашел его до того изменившимся, что прислал к нему доктора Сарьяна. Доктор Сарьян, лечивший г-на Ренодье, осмотрел Марселя. Не было ничего серьезного, но не мешал бы свежий воздух, деревня. Ему следовало бы поехать в палаццо Альдрамин к Бютелэ, который его уже приглашал к себе. Рассеяние, связанное с путешествием, было бы ему полезно… Марсель твердо решил не слушаться советов доктора Сарьяна. Он не хотел удаляться из Парижа, не хотел отказываться от гнетущих воспоминаний перед портретом отца, от печальных паломничеств на кладбище Пер-Лашез.

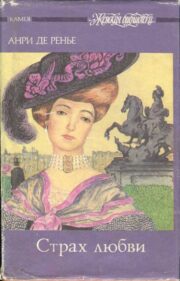
"Страх любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх любви" друзьям в соцсетях.