— Ах, так вот из-за чего весь разговор! — рассмеялся я.
— Конечно. Тебя это удивляет?
— Моя дорогая госпожа, какое же у вас нежное сердце! — вздохнул я. Просунув руку под газовый шарф, спустившийся ей на шею, я ласково погладил бархатистую кожу Эсмилькан.
Повинуясь легкому нажиму моих пальцев, она повернула ко мне голову, и я заглянул ей в глаза. В них стояла печаль. Я еще раз убедился, что бездетность Сафии искренне огорчает мою госпожу. У меня вырвался вздох — ангельская красота Эсмилькан была только отражением ее чистой и доброй души. Разве имел я право огорчать ее?
Решив сменить предмет разговора, я отвернулся и с притворным восхищением принялся разглядывать комнату, будто впервые увидев, как она преобразилась за последние дни. Но, если честно, все в ней было сделано по моему вкусу. Я самолично не раз обдумывал каждый завиток причудливой инкрустации из перламутра и слоновой кости, сейчас украшающей панели из оливкового дерева.
— Должно быть, вы очень гордились, показывая эту комнату своим сестрам и подругам. Даже сейчас, когда в ней нет жаровен, она все равно очень хороша, — заметил я. — Вы можете гордиться тем, что сделали, моя госпожа.
— Что мы сделали, Абдулла, — поправила меня Эсмилькан. — Я хорошо понимаю, что не смогла бы обойтись без твоей помощи и советов.
— В любом случае, комната стала намного красивее. Особенно если вспомнить, какой она была, когда мы увидели ее в первый раз, — кивнул я.
— О да! А ты помнишь, как в самый первый вечер ты пообещал мне дворец, построенный «великим архитектором Синаном»?
— Ну, я ведь сдержал слово, не так ли?
— Да, конечно. Жаль только, что штукатурка кое-где еще не высохла. А мебели тогда вообще не было. Помнишь, как мы спали на ковре, а в комнатах пахло сыростью и везде бродило гулкое эхо?
— Это было настоящее приключение, разве нет?
— С тех пор, как я встретила тебя, у нас что ни день, то приключение.
Я отвернулся: взгляд Эсмилькан жег меня, словно жаровня, в которой развели слишком сильный огонь.
— Ну, за это время кое-что все-таки изменилось…
— И вот теперь, когда Сафия уехала на время… — Эсмилькан не договорила, и я услышал тяжелый вздох.
— Вы будете скучать по своей семье и друзьям, не так ли?
Эсмилькан, потеребив пуговицы на йелеке, вновь невольно расстегнула одну и опять застегнула ее.
— Теперь со мной Айва. А потом и малыш — если будет на то воля Аллаха! И ты тоже, Абдулла.
— Да будет на то воля Аллаха! — эхом повторил я. Больше потому, что это произнесла Эсмилькан, сам я не слишком на это надеялся. — Если Аллах захочет. — Я улыбнулся своим словам, но тут же спрятал улыбку. Не хватало еще разрушать наивную веру моей госпожи. Я ничего не сказал, да и что было говорить. Аллах тут был ни при чем. Я дал клятву защищать Эсмилькан до самой смерти и сдержу свою клятву — тому порукой мое слово.
IV
Впрочем, я скоро заметил, что и Айва тоже, кажется, полагается не столько на волю Аллаха, сколько на себя. Выяснилось это очень скоро. Всего несколько дней спустя она позвала меня помочь ей разместить в стенных шкафах заново отделанных зимних покоев целую кучу снадобий и лекарств, которые она привезла с собой.
— Нет, нет, снадобья, предназначенные для припарок и растираний, следует держать отдельно от тех, что принимают вовнутрь, — командовала повитуха. — Я всегда держу их на разных полках, иначе может случиться, что служанка, которую я пошлю за ним ночью, что-нибудь непременно перепутает в темноте. И драгоценное время будет потеряно. И это еще в лучшем случае. А может случиться и кое-что пострашнее.
Аллаха она не упомянула, и слов, что все происходит по его воле, тоже не произнесла. Я едва удержался, чтобы не ляпнуть: «Боже, сохрани!» При мысли о том, что может случиться нечто непоправимое, у меня все оборвалось внутри. Айва продолжала хлопотливо расставлять свои баночки, нисколько не сомневаясь, что ничего страшного не произойдет, если только все окажется на своем месте.
Скоро я оставил свои беспомощные попытки помочь и только смотрел, против воли завороженный той ее уверенностью, с которой она управлялась со всем этим ворохом неизвестных мне снадобий. Разбирая свои сундуки, Айва что-то мурлыкала себе под нос. Каждая баночка и флакончик извлекались на свет с восторженным аханьем, словно она видела их в первый раз. Повитуха неизменно подносила их к лицу, зажмуривалась, втягивала сладкий или терпкий аромат, и на лице ее появлялась блаженная улыбка. Такая улыбка бывает на лице матери, когда она, приложив новорожденного к груди, вдыхает запах своего малыша. Казалось, Айва каким-то непостижимым образом догадывается, где и почему каждому флакончику хочется стоять. Она ничуть не сомневалась, что именно это место позволит ему наилучшим образом проявить свои лечебные свойства. Похоже, мало кто владел этим искусством лучше Айвы.
Когда же я принялся причитать по поводу безумного количества всех снадобий, которые теперь придется держать в доме, Айва только пренебрежительно отмахнулась.
— Это мне понадобится только здесь. Когда я пообещала переехать в дом твоей госпожи, евнух, я вовсе не имела в виду, что брошу пользовать женщин главного гарема в серале. А ты хоть представляешь, сколько их? Ведь не все же отправились с Сафией и Нур Бану в Кутахию. А гарем, где живет Михрима-султан, дочь нашего господина? А те, что остались в Эдирне? А сколько переехали на Принцевы острова, чтобы укрыться от летней жары? У меня имеется еще садик, где я выращиваю лекарственные травы. Его я тоже не могу оставить: нужно следить, чтобы моим растениям хватало воды, иначе они засохнут, надо вовремя срезать те, что набрали полную силу, иначе она пропадет. И это еще не все. Надо делать прививки от черной оспы маленьким девочкам, облегчать страдания верных старых слуг и рабов, чьи кости ноют после долгих лет безупречной службы, приходится лечить увечных от ран и недугов, неизбежных в их особом положении…
— А… излечить мое увечье… вернуть мне тот орган, которого я был лишен, ты не можешь?
Бог свидетель, я сам ненавидел себя в эту минуту!
И почти обрадовался, когда Айва свирепо отмахнулась от моего глупого вопроса и даже фыркнула при этом — точь-в-точь рассерженная кошка.
— Нет. Не могу. И Боже тебя упаси, евнух, поверить тем, кто, проведав о твоем богатстве и том могущественном положении, которое ты занимаешь в доме своей госпожи, станет уверять тебя, будто сможет тебе помочь! Знал бы ты, скольких таких несчастных, поверивших всяким шарлатанам, прошло через мои руки. Мне приходилось лечить их ожоги. Ты не поверишь, но кое-кто из них пытался раскаленным железом заставить вырасти снова то, что у него отняли! Сколько отравленных аконитом, подумай только! Аконит иногда называют «любовным ядом», а людям достаточно услышать только слово «любовный», а к остальному они глухи. Я видела таких легковерных, доведенных до отчаяния людей, которые, приняв аконит, впадали в исступление, а потом погибали в страшных мучениях. Так, что тут у меня… Чабрец, перец стручковый для внутреннего и наружного применения, «девичья честь порушенная», «драконовы кости»… — бормотала Айва, водя пальцем по своему списку снадобий. — Не говоря уже о той китайской травке с пятью лепестками, с помощью которой китайцы убивают направо и налево. Они рассказывают, что она имеет свойство светиться в темноте, а растет, дескать, не в земле, а над землей. Не знаю, не знаю… Посадила черенки у себя в саду, но в жизни не видела ничего подобного.
Шарлатаны станут твердить тебе, что сумеют вылечить тебя с помощью трав. Но поверь мне на слово: тебе еще очень повезет, если ты потеряешь только деньги, а не здоровье или жизнь, послушайся ты их советов. Если только тебе не отрезали твое мужское достоинство под самый корень… Что ж, тогда, возможно, но маловероятно, и нашлось бы средство помочь горю. Если бы тебе оставили хоть самую малость, я бы посоветовала тебе кое-что. Но куда чаще желание остается, а способность удовлетворить его пропала навсегда. Ты меня понимаешь? Так что мой тебе совет: не трави себе душу и не трать попусту время в поисках чудодейственного лекарства. Его не существует.
Бог свидетель, при этих ее словах, словно камень упал с моей души, хотя они и сулили мне жизнь, лишенную всякой надежды на счастье. И все равно мне почему-то вдруг стало легче. Как будто жгучая тоска, точно ненасытный зверь день за днем глодавшая мне сердце — многие на моем месте назвали бы это надеждой, — приняв «любовный яд», тихо умерла навсегда.
Айва, повернувшись ко мне спиной, между тем продолжала бормотать себе под нос.
— Да вот, возьми, к примеру, хотя бы смерть. Ведь от нее тоже нет спасения. Благодаря искусству, которое дал мне Аллах, я облегчаю страдания тех, кто мучается от нестерпимой боли. Но я никогда не дарю напрасных надежд и никогда не обещаю невозможного. Мне не под силу исцелять мертвых. Да и кому это под силу, спрошу я вас? Но если боль от твоей утраты мешает тебе жить, то я бы порекомендовала тебе настойку опия. Если честно, ты не первый кастрат, кому я ее советую. Только предупреждаю заранее: не стоит калечить жизнь, когда она еще впереди, маковым дурманом. Ты ведь еще совсем молод, Абдулла. Так стоит ли убивать себя только из-за того, что какой-то жалкий кусок плоти больше уже не болтается у тебя между ног?! Я видела, как такое случается, но, если честно, никогда этого не понимала. С таким же успехом я могла бы изводить себя только потому, что я женщина. Конечно, мне случалось повидать и таких, но по мне так это пустое дело.
— Ах, да, кстати, — продолжала Айва, наткнувшись в своей корзинке на наши ножницы и нож и сунув их мне. — По-моему, это ваши.
— Да, — кивнул я. — Спасибо.
Уже повернувшись на каблуках, чтобы отнести их на место, я вдруг заколебался. Повернувшись к Айве, я сунул нож ей под нос:

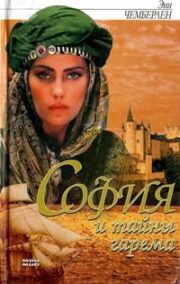
"София и тайны гарема" отзывы
Отзывы читателей о книге "София и тайны гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "София и тайны гарема" друзьям в соцсетях.