Постепенно я успокаиваюсь и так увлекаюсь рассказом, что возвращаюсь к самым истокам замысла. Как задумал переустройство Вифлеемского ящика; как снабдил святое семейство подвижными руками; как научил мудрецов ходить; и даже пересказываю ей свои первые досадливые промахи с вагой; затем хвалюсь первыми успехами. Жанет тут же вызывается попробовать, и я объясняю ей устройство ваги и жалуюсь на чувствительность маленького коромысла. Жанет делает первую попытку, путается в нитях и смеется. Но пальцы у нее ловкие и сильные, и через какую-то пару минут ей удается заставить марионетку совершить поклон. Она внимательно следует моим указаниям и забавно морщится, когда марионетка выделывает курбет. Мне остается только изумляться собственной словоохотливости. Вся моя ораторская деятельность за последние три года укладывалась в однообразные просьбы, адресованные Любену, и в заученные фразы благодарности герцогине. Больше мне не о чем говорить да и не с кем. Разве что с Анастази. Но и там говорила больше она, уговаривала или утешала. Сам я давно утратил навык монологической речи. Некому было слушать. Ни друга, ни священника. Если только, подобно Боэцию72, найти воображаемого собеседника и пуститься с ним в бесконечные споры. Но мне повезло больше, чем последнему римлянину. Он только воображал прекрасную целительницу, а мне она явилась наяву. Она здесь и слушает весь этот вздор, который я несу. Внимает с подлинным участием, не отвлекаясь и не прерывая. А я, ободренный таким вниманием, вновь переживаю утраченную радость. Волхвы следуют за звездой, воздевает руки Иосиф. Я со смехом пересказываю наш разговор о странных подарках, которые преподнесли новорожденному восточные мудрецы. Жанет добавляет, что ее тоже не раз ставил в тупик этот странный выбор. Золото, ладан и смирна. Ее духовник еще в раннем детстве объяснял ей, что это дары Богу, Царю земному и Царю небесному, но отчего-то ни разу не упомянул о ребенке. Вместо ответа я нахожу шелковый мешочек с орехами и миндальным драже, который прежде крепился на спине у мудреца, чтобы предъявить его как маленькую евангелическую вольность. Жанет достает конфетку и надкусывает ее. И вдруг ее лицо будто заволакивает туманом. Она хмурится, порывисто встает, делает шаг в сторону, потом возвращается и обнимает меня.
– Господи, дитя… Совсем еще дитя. Невинное, доверчивое… Я чувствую, что ей как-то не по себе, и не могу понять, что я сделал не так. Она взволнована, у нее дрожит голос и дыхание прерывается. Похоже, она борется с собой. Я не знаю, как ей помочь. Только привычно цепенею. Но Жанет уже справляется с волнением. Лоб ее разглаживается, и глаза, вновь ясные, горят нежностью и лукавством.
– Продолжай, – ласково приказывает она.
– Да нечего продолжать. Святая ночь кончилась, а на утро нас разлучили.
Я снова обращаюсь взглядом в тот миг, когда лишился смирения, когда дьявол, завладев моим сердцем, заронил в него жажду крови. Я хотел убить, я предвкушал, и я наслаждался.
– Мне оставалось только ждать. Я знал, что она придет.
– Откуда такая уверенность?
– Потому что она всегда приходит. А сегодня именно тот день.
– Какой?
– Когда мне особенно будет больно. Я вчера виделся с дочерью, и весь последующий день для меня самый тяжелый. У меня никого нет, кроме моей девочки, и разлука с ней дается мне нелегко. Она это знает. Это как рана, с которой раз за разом срывают повязку. Я на какое-то время будто дичаю. Проявляю упрямство, говорю дерзости. А ей это нравится. Не моя дерзость, конечно, а повод затеять ссору. Она меня будто дразнит, не позволяет уползти в нору и там зализывать раны. Будь в моем распоряжении какое-то время, я бы излечил себя. Мне бы удалось вернуть себе хладнокровие и рассудок. Но она не позволяет мне это сделать. Ей нужно видеть, как я в отчаянии кусаю губы, как ломаю себя, как трещат мои кости. При этом мне полагается отвечать на любезности и выполнять прихоти высокородной дамы. Я должен быть ласков, покорен и нежен. Чего бы мне это ни стоило… А если нет, то моя дочь пострадает. Ее похитят или убьют. Вот я и подумал, что если это сегодня случится, я не выдержу. Сил нет. Она, вероятно, этого не понимает, или, наоборот, слишком хорошо понимает, что я живой и мне… больно. Очень больно.
Говоря все это, я смотрю куда-то в сторону, а с последними словами обращаюсь к Жанет, будто за подтверждением, так ли это, действительно ли я живой. У нее лицо застывшее, яростное.
– Хватит, – решительно говорит она. – Иди ко мне.
Жанет протягивает руки, и я с готовностью повинуюсь. Ее волосы щекочут мне кожу, лезут в глаза, в рот, но я не борюсь с ними. Напротив, мне приятна их жестковатая бесцеремонность. Я прячу в них лицо, с мечтой окончательно запутаться и утонуть. Когда-то я уже касался их, рыжий локон, подобно пламени, царапнул щеку, и я все еще помню это щекочущее скольжение. Я мечтал испытать его вновь, стыдился и гнал соблазн прочь, но в полудреме возвращался к нему. Мне казалось, что, доведись мне коснуться ее волос еще раз, то все мои чаяния сбудутся. Все прочее уже за гранью желаний и доступно только богам. И вот я, ничтожный смертный, обнимаю ее, уже не прячу руки за спиной, цепляясь за иссохший стебель, а касаюсь ее тела, ощущаю ее живое присутствие, слышу ее дыхание. От ее кожи, матовой и теплой, мою ладонь отделяет преграда из расшитого бархата. Ткань облегает ее очень плотно, и я нахожу чуть заметную впадину между ее лопаток. Я тут же воображаю мягкий желобок, уходящий по ее спине вниз. От собственной дерзости у меня кружится голова. Тут же испытываю страх, что сжимаю ее слишком сильно, и чуть отстраняюсь. Но Жанет не подается назад. Она ободряюще целует меня в уголок рта, в подбородок и выдыхает в самое ухо:
– Смелее.
Трется прохладной щекой о мою, пылающую. И снова коротко трогает губами. Я сглатываю ком и ладонью провожу по ее спине вверх, к затылку. У меня колотится сердце, дыхание срывается. Я будто узник, после долгих лет заключения в темноте вышедший на свет. Перед этим узником лестница, а наверху узкий лаз. И там слепящее солнце. Он ставит ногу на первую ступень и обнаруживает, что разучился ходить. Ему надо начинать все сначала. А я разучился быть любовником, я стал вещью, безропотным, говорящим механизмом, который приводится в действие нажатием рычага. Этот механизм не умеет действовать самостоятельно, он умеет только исполнять. Как же ему сдвинуться с места? Без кнута, без понуканий. Будто счастливый парус под напором свежего бриза. Как страшно. И сладко. И мучительно стыдно. Если бы она только помогла мне, указала бы, что делать. Но Жанет молчит, вернее, она шепчет мне что-то на ухо, что-то пронзительно нежное, но из-за шумящей в голове крови слов не разобрать. Там, где кончается кружево ее воротника, – матовый блеск кожи. Мягкая линия шеи и чуть выступающая ключица. Я осмеливаюсь прикоснуться. Я должен быть осторожен, ибо она не может быть настоящей. Это волшебным образом сгустившийся солнечный свет, который принял облик женщины. Летом она вдыхала запах цветущих трав, подставляла свое лицо первым лучам и потом прятала щедрый дар небес в самой себе. Солнечный свет осаждался в ней, будто золотой песок, он просачивался сквозь кожу, окрашивая волосы и проступая чередой веснушек. А она все вдыхала и вдыхала. И вот она принесла этот обрывок лета сюда, в декабрьскую тьму. Она светится манящим, ласкающим теплом, в котором так упоительно лишиться разума.
Жанет смотрит на меня, и в ее глазах то же солнечное торжество, гибельное пламя для обезумевшего мотылька. Я не могу противостоять этому зову, я преодолеваю стыд, и страх, и свою ничтожную ограниченность смертного. Я снова обнимаю ее, но уже с древним изначальным пылом любовника. Я уже знаю, как надо касаться ее, как ласкать, как владеть ею по праву возлюбленного; как ощутить этот тиранический триумф мужчины. Жанет не торопит и не препятствует. Она не направляет меня и ни о чем не просит. Она только касается ладонями моего лица и гладит мои волосы. А я, ободренный этой безнаказанностью, распутываю шнурки ее корсажа. И обнаруживаю, что на груди у нее тоже веснушки… На молочно-белой коже они, будто золотые звездочки вокруг двух розовых планет. Жанет будто ненароком сгибает ногу, и обнажается ее затянутое в шелк колено. Она опирается на локоть и откидывается назад. Повыше ее подвязки – упругое гладкое бедро, и я уже чувствую безумное сожаление из-за собственного несовершенства. Мне бы хотелось ласкать ее всю, каждую ее клеточку, не отрывать губ от ее рта, и в то же время жадно наслаждаться округлостью ее груди и податливостью живота, ощущать ее всем телом, а не одной неуклюжей ладонью. Я чувствую, что слишком поспешен и почти груб, но желание мое так сильно, что разрывает изнутри болью. Я не могу остановиться. Мой разум окончательно меркнет. Я – только стонущее, бьющееся тело. Мой порыв – это мольба. Когда-то отвергнутый, изгнанный, обращенный в жалкий осколок, я желаю вернуться к блаженной целостности. Я хочу погрузиться до конца и утратить ненавистную, алчную самость. Я уже не молю, я требую, я бьюсь в невидимую стену, за которой меня ждет лучезарное небытие. Там я найду то, что потерял. Моя отделенная душа, моя противоположность. Я не буду более покинут и ничтожен, я стану частью великого целого. Сорвавшаяся капля мечтает о гремящем потоке, который унесет ее к далекому морю, зерно пшеницы – о влажном земном лоне, которое примет его и взрастит. Мука нестерпимая, но стена все тоньше… Я совсем близко. Только бы не задохнуться от подступающей радости, не ослепнуть. По спине пробегает огненный всполох. Сейчас я обращусь в обугленного стенающего еретика. И буду проклят или вознесен. Когда стена наконец идет трещинами, рушится, с губ моих срывается хрип. Я хочу кричать, но горло перехватывает какая-то шершавая судорога, глушит и пресекает крик. Но преграда поддается, и я проваливаюсь в сияющее жерло, где меня ждет полный распад, огненная тишина и кратковременное безмыслие. Мое тело теряет свои границы, расползаясь, и восторг раздирает его на тонкие лоскуты. Я получил вечное прощение, я помилован. Я свободен.

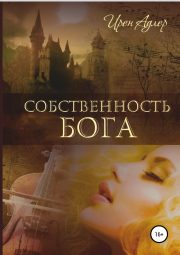
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.