Когда Ты Предстанешь Перед Лицом Сильного Мира Сего, Помни, Что Другой Смотрит Сверху На То, Что Происходит, И Что Ты Должен Угождать Ему Скорее, Чем Этому Человеку.
Эпиктет
Сын Мой! Наставления Моего Не Забывай, И Заповеди Мои Да Хранит Сердце Твое…
Притчи 3:1
Часть первая
Ее кровь давно утратила цвет. Она струилась по жилам, как вода по стеклянным трубкам, почти прозрачная, оставляя кончики пальцев холодными и сухими. Ее сердце обратилось в упругую мышцу, сохранившую единственно доступный ей ритм. Не замедляясь и не ускоряясь. Днем и ночью. Без радости и печали. Без волнений и страха. Она хотела бы испугаться или прийти в ярость, хотела бы зарыдать или зайтись в крике. Но не могла. Ее чувства пришли в упадок, как приходит в упадок некогда заброшенный сад. Иногда ей даже казалось, что она умерла. Вот такая странная, незаметная для глаз смерть. Почти благословенная, без тлена и смрада. Душа свернулась, подобно зародышу в ледяной скорлупке, и заснула. За ненадобностью.
Глава 1
Я вижу ее глаза. В них страх. Сначала недоумение, досада, затем догадка. И страх. Он разгорается, бледностью ползет по лицу. Она и так бледна, кожа цвета алебастра, но под ней переливается кровь, а страх эту кровь изгоняет, тогда белизна становится мертвенной с трупной серостью. Она боится. Как же она боится! Где же оно, то величавое презрение, с каким она взирала несколько часов назад? Его больше нет. Только страх. Ее зрачки расширяются, веки, всегда полуопущенные от того же презрения, от врожденной брезгливости, ползут вверх, чтобы страх, еще скрытый, взвился там, под ними, вспыхнул бы красным всполохом, брызнул пятнами. Она хочет кричать. Губы ее размыкаются, движется горло. Но страх, верный мой союзник, забивает ей горло кляпом. Ей не вздохнуть. Только горло все движется. Ее горло, той же алебастровой белизны, лилейной нежности, с трепетной голубой жилкой, горло, которого я, совращенный, несколько часов назад касался губами. Это горло притягивает меня, зовет. Там средоточие ее жизни, в этом хрупком движущемся узле под бледным покровом. Если этот бугорок сдавить, переломить влажный хрящик, она умрет… Я услышу, как лопнет эта мягкая кость, как дыхание змеиным шипением будет продираться сквозь закушенные губы, как хрипом и бульканьем отзовется сломанный хрящ. Хочу слышать этот предсмертный крик, хочу ощутить ладонями скользкую от пота высокомерную шею. И убить. Хочу убить. От желания мысли плавятся, сливаются в одну. Я весь – эта мысль, весь – порыв, уже не человек, еще не мертв, но и живым не назвать. Сгусток, ядро из плоти и слез. Без души, без сердца. Все осталось там, наверху, среди окровавленных простынь, рядом с почерневшим младенцем и бездыханной матерью. Там остался я, прежний, девятнадцатилетний, с надеждами и мечтами, с юностью и любовью, а здесь, во дворе, я – сама смерть.
Успеваю приблизиться и коснуться. Ибо время замедлилось. Страх, мой союзник, связал и растянул минуты. Их время, время моих врагов, стало вязким, густым и липким. Страх, играя на моей стороне, крепит их подошвы к мостовой, сковывает их руки. Они меня не узнали, не разгадали. Я их опережаю. Ее горло… Она неподвижна, не пытается защититься. Ибо все тот же страх застывает параличом в ее локтях и коленях. В моих пальцах неведомая палаческая тяжесть. Мои пальцы – орудие, петля со скользящим узлом. Как уязвима эта высокомерная шея! Мои пальцы уже давят, крушат. Я чувствую, как плоть поддается, уступает и хрящ уже пружинит, противясь и надламываясь. Ее глаза совсем близко. Теперь мы на равных. Я стащил ее вниз с ее пьедестала, в презренную телесную уязвимость. Я вернул ее в смертность. Но в ее глазах равные доли недоумения и страха. Она не верит, она все еще не верит. Хрипит, задыхается и не верит. Что я… что такой, как я… Слепящий удар, боль. И снова удар. Теперь уже мое время замедляется и ползет, разбухает от крови. Их время, их мгновения теперь – как пущенная стрела. Меня хватают, наваливаются. Вместо ее глаз чей-то пыльный сапог с квадратным носком и ребрышком стали. Взлетает, опускается. Я уже не сгусток ярости, обращенный в клинок, я – сгусток боли.
Но это не долго. Я своей цели не достиг, но они, ее стражи, достигнут своей. Еще несколько ударов, и на мой затылок опустится рукоять хлыста, затем, после белых костяных брызг, наступит беспамятство. И смерть. Умирать не страшно. Я давно мертв. Я умер в тот миг, как ступил на брусчатку, сбежав по скрипучей лестнице. Там наверху остались мои жена и сын. Моя жена истекла кровью, мой сын задохнулся в утробе. Повитуха тащила его синее тельце железными щипцами из материнского лона, которое само уже обратилось в кровавые лохмотья. Я ждал чуда – сиплого, булькающего младенческого писка, но мой сын висел в этих щипцах, как освежеванный кролик. Моя жена, тоненькая, обескровленная, еще дышала, но милосердный обморок закрыл ей глаза. Она не узнала о смерти сына. Она помнила только меня, только мой грех. Она умерла с этим знанием, отвергнув мое раскаяние. И мне, чтобы вымолить прощение, предстоит отправиться вслед за ней, по лунным пятнам на мертвой воде. Те, кто сейчас наносит мне удары, кто слепит меня болью, лишь приближают этот благословенный миг, смывая солоноватый привкус греха. То, что я не достиг своей цели, не стал убийцей, облегчит мне путь. Я умираю без отпущения, без покаяния, почти проклятым… Но мне все равно. Скоро все кончится.
Сейчас… сейчас кто-то из них нанесет последний удар, набросит веревку или оглушит так, что брызнет черная кровь под стальным прутом. Защищаться я не пытаюсь, только закрываю лицо. Тело само, без участия разума, сжимается, корчится. Скорей бы… Внезапно они отступают. Я слышу голоса, тяжелые хрипы вспугнутой своры. Они, будто отозванные егерем собаки, щелкают зубами. Среди рыканья и хрипа я различаю голос моего приемного отца, епископа Бовэзского. Тихий, слабый старческий голос. Глаза мои закрыты. Я его не вижу, но слышу торопливые семенящие шажки, шелест потертой сутаны. Он мечется среди этой стаи. – Пощадите его, пощадите! Он не в себе. Его жена умерла в родах. Ребенок мертв… Он обезумел от горя.
Я не безумен, отец. Мой ум пугающе ясен. Я слышу, как шелестит, осыпаясь, песок с чьих-то сапог, как переступает запряженная лошадь, как нетерпеливо поигрывает лакей своей тростью и как она, знатная дама, носительница власти, что-то гневно, презрительно шепчет. И тут же мои руки отрывают от лица, меня вздергивают и ставят на ноги. Боль в ребрах, в затылке застрял раскаленный коготь. С глазами что-то случилось. Пятнистая круговерть, вытянутые искаженные лица. Большое фиолетовое пятно – это отец Мартин, епископ Бовэзский, мой приемный отец. Он похож на старого взъерошенного воробья, который топорщит крылья и подскакивает на мостовой перед крадущейся кошкой.
Своим жалким чириканьем этот воробей пытается отвлечь степенно ступающего зверя от птенца-подлетыша, неосторожно покинувшего гнездо. Кошка только досадливо дергает ухом, не сводя глаз с добычи. Что ей это жалкое отцовское чириканье, эти седые растопыренные крылышки, этот клювик и крохотные лапки?
Не надо, отец, не надо, не просите ее! Я пытаюсь разлепить разбитые, уже распухшие губы, склеенные кровью. Она что-то отвечает, тоже едва шевелит губами. Ее шея уже не слепит лилейной белизной. Эта шея помята, подпорчена, в багровых пятнах, быстро набирающих цвет. Моя рука. Как же я не успел? Хрящ уже поддавался, уже проваливался в глубину гортани. Я только жалкий любитель в искусстве убивать. Я не смог превозмочь себя и повредить тому, что создано Господом. Даже в угаре мести я чувствовал под рукой саму неприкосновенность жизни, ее уязвимость и конечность. Одно дело – воображать, обращаясь всем существом в карающий меч, и совсем другое – трогать этим мечом трепещущую жилку под кожей, ниточку, идущую от самого сердца.
Но ее высочество герцогиня Ангулемская, сестра и дочь короля, носительница власти, колебаться не станет. Она уже овладела собой и слушает просителя со скучающим презрением. Отец Мартин все еще лепечет, голова трясется. Он уже совсем старенький. Ему трудно ходить, по ночам ноют суставы. Мое сердце сжимается. Господи, что же я наделал? Я подвел его. Как же я его подвел! Старик хватает ее за скользкий расшитый рукав. А она поворачивается спиной. Но прежде через плечо бросает в мою сторону взгляд, ведет им медленно, будто тянет по мне наточенный гребень. Делает неопределенный знак. Я закрываю глаза. Сейчас те, кто выворачивает мне локти, исполнят приказ. Удушье, тошнота… Скорей бы. Не сопротивляться… Не сопротивляться. Бедный старик, это произойдет у него на глазах. Но удара нет. Меня снова волокут, как мешок, как ободранную тушу, коленями, ступнями по камням и торочат к седлу. Мне придется бежать за лошадью. Если споткнусь, задохнусь, мои ноги будут волочиться по мостовой.
Отец Мартин все еще умоляет. Его потертая сутана взлетает, как побитые, израненные воробьиные крылья.
– Пощадите, пощадите его! Милосердие – это благодать от Господа. Господь милосерд. Он прощает грешников, тех, кто по неразумию, по слепоте своей… Иисус на кресте воззвал к Отцу своему небесному. Прости им, Отче, ибо не ведают, что творят. Иисус, Спаситель, пострадавший за нас, умерший за нас, принявший крестную муку, искупивший кровью грехи наши, и нас благословил прощать.
Уже ступив на подножку, она в последний раз обращает к нему свое белое лицо. Губы ее двигаются, слов я не слышу, но догадываюсь.
– Я не Иисус, святой отец. И на третий день не воскресну. Ее лакей, верзила в синей ливрее с серебром, толкает старика. Тяжелый экипаж, запряженный четверкой, вздрагивает. Кучер, такой же рослый, как и лакей, подбирает поводья. Но старик не сдается. Он порхает, кособоко подпрыгивая, будто в него бросили камнем. Пытается влезть на подножку, заглянуть в экипаж, вновь умоляет, затем, припадая на одну ногу, бежит к кучеру, цепляется слабыми, сухими руками за звенящую сбрую. Кучер трогает лошадей, огромных, холеных, с длинными, страшными, темными мордами. Я хочу крикнуть, но горло перехватывает. Моя лошадь уже тянет меня, выворачивает руки.

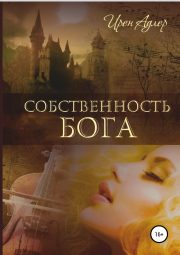
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.