Ее забирают у меня на рассвете, едва стихают колокола ad Missam in aurora70. Таков приказ герцогини. Наше свидание и так затянулось. Девочке позволили провести в замке целую ночь. Первое и единственное отступление от правил. Больше это не повторится. Сам я всю ночь не сомкнул глаз. Смотрел на свою спящую дочь, на безмятежное детское личико. Я уложил ее спать на кушетке, поближе к камину. Рождественское полено уже обратилось в багровые угли, но все еще изливало из каминного раструба живительное тепло. Уже полусонная, не открывая глаз, Мария позволила стянуть с себя нарядное платьице и новые башмачки. Чуть поворочалась под одеялом, повертелась, как привередливый щенок, и уснула. Я не посмел перенести ее в свою спальню, на кровать, проклятое ложе греха, и оставил ее там, среди разбросанных игрушек. Сам примостился в кресле поблизости. А если она проснется? Или угорит от камина? Да и как лишиться этих драгоценных часов ее присутствия. Я буду смотреть на нее и слушать колокола далекой рождественской вигилии. Под утро я все же задремал и очнулся от боли в затекшем плече. На цыпочках вошла Жюльмет и прошептала, что Наннет уже ждет. Воздух в комнате остыл, Мария хныкала и дрожала. С Наннет мы не обменялись ни словом. Она молча приняла вновь задремавшую девочку, укутала ее полой своего капора и коротко кивнула на прощание. С неба все еще сыпалась ледяная мука. Лес, оголенный оттепелью, вновь приоделся. Подмораживало, и снежная крошка скрипела под ободом колеса. За моей спиной возник Любен и набросил мне на плечи плащ.
– Я согрел вам вина. С сахаром и корицей.
– Спасибо, Любен.
Очень предусмотрительно с его стороны. Я более получаса провел во дворе, в одном камзоле из тонкой английской шерсти. А день выдался морозным и ветреным. За ночь крылатые львы у парадной двери обратились в задумчивых патриархов. День святого богопришествия мало походил на праздник. Скорее это был день скорби, первый на коротком, тернистом пути к жерт – веннику, которому был предназначен Спаситель. Небеса оплакивали своего Сына.
Экипаж давно скрылся из вида, снежный туман растворил далекие звуки, а я все смотрел и смотрел, не замечая ледяного песка, который ветер бросал мне в лицо. Наконец голос благоразумия и мольбы пританцовывающего Любена вернули меня к действительности.
Пусто и тихо. Жюльмет вкрадчиво осведомляется, не пора ли прибраться в этом маленьком разоренном королевстве, но я жестом ей запрещаю. Я еще не готов. Я знаю, что выданный мне аванс исчерпан, но, как всякий смертный, не желаю мириться с утратой. Разбросанные игрушки, оплывшие свечи. В них уже нет жизни. Пустые, никчемные деревяшки. И как я мог поверить, что они способны двигаться? Бросить бы их в огонь, опрокинуть и перемешать угли. Когда-то герцогиня приказала сжечь все мои поделки, желая отомстить за краткий миг радости, теперь я сам готов себе мстить, залить рану кипящим маслом. Любен приносит мне дымящийся, пахнущий корицей кубок. Это сдобренный пряностями, подслащенный кларет. Напиток римских легионеров. Теперь им согреваются торговцы на рыночной площади. Говорят, это лучшее средство от простуды. Озноба я не чувствую, но льдом покрывается душа. Самое время согреться. Не раздумывая, я выпиваю кубок до дна. С утра я еще ничего не ел, и напиток действует сразу. Меня клонит в сон. Как все пьяные люди, я, прежде чем свалиться, нахожу тысячи несообразностей и ошибок. Заплетающимся языком выговариваю Жюльмет за ее вмешательство, придираюсь к Любену за его назойливость, чертыхаюсь в адрес герцогини и даже пытаюсь затеять ссору с неподвижным святым семейством. Самое время для откровений от Всевышнего. Пусть не прячет Свой лик, пусть обратит его к смертным, пусть полюбуется на это грязное обиталище, залитое вином и кровью… Или Он пьян от ладана и глух от славословий и молений? Пусть… Но Любен уже тащит меня из кабинета. Спать! Конечно, что мне еще остается? Забыться сном. Иначе бессвязный монолог закончится безумной пьяной выходкой. С меня станется…
Сплю я несколько часов и просыпаюсь еще до темноты. Трезвый и злой. Сон изгнал хмель, но не избавил от мучений. От необходимости жить, двигаться, дышать. Я до боли стискиваю зубы, чтобы сдержать крик. Любен согревает мне воды и приводит цирюльника. Бриться самому мне не разрешается. Дабы избежать соблазна. В эту минуту я остро ненавижу их обоих. Как же они предусмотрительны и деликатны! Кружева топорщатся от крахмала, а чуть влажные волосы благоухают миндальным мылом.
От герцогини нет никаких вестей, но, как это обычно происходит, она пожалует в любой угодный ей момент. Тем более что сегодня подходящее время. Поэтому меня так готовят. Это день особого лакомства, великая трапеза. Моя кожа истончилась и обратилась в бесплотную видимость. Она поспешит прикоснуться к обнажившимся нервам, тронуть узлы сухожилий и сплетения вен. Как же ей упустить такое зрелище? Она придет, я знаю. Покинет августейшую родню ради редкой закуски. Я даже представляю ее, в экипаже без гербов, с опущенными шторами, или даже верхом, в сопровождении двух-трех верных стражей. Она мчится сквозь снежный туман, скользит, как изголодавшийся вурдалак. Под опущенным капюшоном ее глаза горят нетерпением и насмешливым торжеством. Хищник на знакомой, облюбованной тропе. Жертва не бежит, ибо в жилах ее растворен яд. Этот яд не убивает, но лишает воли. Тело живо, но обездвижено. У жертвы нет выбора. Я слышу, как хлопает на ветру, подобно крыльям, ее черный бархатный плащ, как стучат копыта, взламывая мутный ледок. Она едет сюда за данью. Я знаю. Я убью ее.
Когда щелкает замок, я не вздрагиваю. Я уже столько раз в памяти воспроизвел этот звук, что не слышу разницы. Я видел также, как расходится шелковая обивка, увеличивая дверной проем. И доказательства мне не нужны. Именно так это и происходит. Она крадется и таится, чтобы подсмотреть и подслушать, застать свою жертву врасплох, без маски. Я все еще стою спиной к двери и смотрю на свой импровизированный театр. Прикидываюсь глухим и наливаюсь холодной яростью. Нет, я не жертва, я сам хищник, с помутившимся разумом, с полускрытым голодным оскалом. Усилием воли я вынуждаю себя сохранять неподвижность, боясь спугнуть ее. Пусть подойдет поближе. Для верности я даже опускаюсь на одно колено, будто намерен что-то подправить в задуманной композиции. Я слышу, как она уже переступает порог. Заглядывает в полуоткрытую дверь и упирается взглядом мне в затылок. Я чувствую этот взгляд, сверлящий, повелительный. Она уверена, что застала меня врасплох, непозволительно взволнованного, в мыслях о дочери, а когда обернусь, она увидит мое искаженное лицо, свидетельство муки. Она заглянет мне в самую душу, запустит руку и будет там шарить. Я буду то краснеть, то бледнеть, буду вздыхать, заикаться, буду путать слова, лепетать, оправдываться… А она будет загонять меня в единственно оставшийся угол. Я уже вижу ее белое правильное лицо, ее полузакрытые от наслаждения глаза. Ярость оборачивается вспышкой в груди. Я вскакиваю и оборачиваюсь. Она в своем черном плаще с серебряной вышивкой. И капюшон все еще закрывает лицо, обращая ее в безликий призрак. Мне кажется, или она стала меньше ростом? Но этот вопрос все равно что пение флейты в грохоте барабанов. Я не могу остановиться. Я бросаюсь на нее, хватаю за плечи и встряхиваю. Я хочу видеть ее лицо, ее страх. Пусть ее зрачки расширятся, а рот станет кривым и жалким. Пусть вместо крика вырвется хрип. Капюшон падает, и я вижу лицо. Лицо женщины. Кожа белая, но усеяна веснушками, а рассыпавшиеся волосы – золотые.
Это не герцогиня!
Это Жанет!
Передо мной стоит Жанет, а я немилосердно трясу ее за плечи. В глазах не страх, а веселое изумление.
– Сударь, да умерьте же ваш пыл. Вы оторвете мне голову!
Как ошпаренный, я подаюсь назад, спотыкаюсь. Что-то попадается мне под ноги, отлетает в сторону; я почти теряю равновесие, хватаюсь за первое, что оказывается под рукой, – это ширма, за которой я прятал светильники. Она обрушивается, тянет меня за собой, и я оказываюсь лежащим среди собственных деревянных игрушек, сам такой же неуклюжий и беспомощный. Жанет наблюдает за мной с улыбкой.
– Вот теперь никаких сомнений. Вот теперь я точно знаю, что вы рады меня видеть.
У меня голова кругом. Вероятно, тот, кто управляет сейчас мной, выпустил из рук вагу, и она свободно болтается, позволяя моим рукам и ногам совершать бессмысленные повороты и взмахи.
– Любен… – задыхаясь, произношу я первое, что приходит в голову. – Он услышит шум. Он увидит вас!
– Не увидит, – невозмутимо отвечает Жанет. – И не придет.
– Не придет? Почему?
– Потому что он не посмеет потревожить ее высочество, если она желает провести несколько часов в обществе своего люб… фаворита.
Мне наконец удается справиться с собой и утвердиться в вертикальном положении.
– Ее высочество?! Но она… вы… я не понимаю. Как вы?.. Вы… вы снова заблудились?
Жанет продолжает улыбаться.
– Нет, на этот раз я знала, куда иду. Потому что она – это я, а я – это она. Ведь это она здесь, не правда ли?
Она делает поворот, и плащ взлетает, как огромное крыло.
– Не понимаю.
– Для всех, кто меня здесь видел, я не Жанет д‘Анжу, я герцогиня Ангулемская. Для привратника, мажордома, горничной, для вашего надсмотрщика Любена я – это она.
По выражения моего лица она угадывает, что ее слова – всего лишь пустой звук. Я таращусь на нее, как глухонемой на Цицерона. Жанет снимает плащ, сворачивает его и бросает в угол, за кресло. Под плащом на ней платье такое же, как у ее сестры, с жемчужной отделкой. Герцогиня не раз надевала его к ужину. Меня это окончательно сбивает с толку. Какая ужасная шутка! Герцогиня решила поиграть со мной. Она выдает себя за Жанет. Или это мой разум, ограждая меня от мук, надел на нее маску? Это такой вид сумасшествия, я слышал. Все очень ясно, в цвете. Ее волосы, голос…
– Геро, не бойся, это я, Жанет. Это только платье, я заказала себе точно такое же, как у нее. Моя модистка скопировала фасон и нанесла такую же вышивку, и плащ у меня – точная копия. Поэтому все думают, что я – это она. Это она здесь, с тобой. Это она приехала из Парижа. Ей понадобилось алиби. Кто-то в случае необходимости должен будет подтвердить, что этой ночью ее не было в Париже. Вероятно, это инсценировка для шпионов, а сестрица впуталась в какой-то заговор.

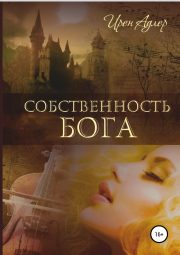
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.