– Сударь, вам плохо? – С чего ты… взял? Наоборот! Нет, нет, я не спятил. И рассудок мой в полном порядке. Я всего лишь вспомнил одну пьесу, итальянскую… Ее как-то давали на ярмарке в Сен-Жермен. Живо так представилось. На тебя взглянул и подумал… Одним словом, напомнил ты мне одного малого.
Любен только растерянно взирает. Наконец, отсмеявшись и отдышавшись, я делаю ему знак приблизиться.
– А что там у мэтра Ле Пине к обеду? Сгораю от любопытства.
Глава 11
Эта мраморная беседка, возведенная некогда флорентийским зодчим, прибывшим ко двору короля Франциска, погибла, скорее, по неосторожности, чем по злому умыслу. Конфлан, некогда построенный Гизами, принадлежал герцогу Майенскому, который вступил в сражение с королевским войском. Рассказывали, что в той беседке, предназначавшейся для влюбленных, держали бочки с порохом. Кто-то поджег фитиль. Резиденция мятежного герцога ущерба не понесла, а вот беседка, приют поэтов и любовников, погибла. От нее осталась одна-единственная колонна в дорическом стиле, примыкающие к этой колонне три ступени и небольшая часть отшлифованной мраморной площадки с обломком скамьи. Ни один из последующих владельцев замка не позаботился снести эти руины окончательно. Точно так же ни один не предпринял обратного действия, не отстроил беседку заново. Так и торчала эта единственная колонна, будто укоризненно возведенный перст. Поврежденные взрывом обломки затягивал дикий виноград, как новорожденная кожица затягивает рану. У подножия колонны разрослась жимолость, розовел своими невзрачными цветами, а затем поблескивал оранжевыми плодами дикий шиповник. Клотильда, подобно своим предшественникам, так же не обращала внимания на эти развалины. Первый, кого привлекли мраморные останки, был Геро. В теплое время года он часто устраивался там с книгой, скрываясь в тени колонны от избыточных ласк полуденного солнца, или находил там защиту от порывов ветра. Возможно, в этих развалинах, по-своему величественных, он находил сходство со своей жизнью. Нечто такое же невосполнимо утраченное, иссеченное, разбитое, под стыдливо цветущей мантией, и неуловимо прекрасное.
Я надеюсь, что Липпо навестит меня еще раз, но его нет. Вместо визита он передает мне через Любена какие-то порошки, которые я должен принимать на ночь, и записку. В ней он рекомендует мне совершать часовые прогулки на рассвете. Почему на рассвете? Почему не перед сном? Вновь таинственная восточная мудрость? Впрочем, при сложившихся обстоятельствах это лучшее время. Замок полон гостей, и мое появление в парке вряд ли останется незамеченным. К тому же Любен не выпустит меня днем. У него приказ. Ее высочество не желает, чтобы я привлекал к себе внимание и служил темой для разговоров. Предпочитает держать нашу связь в тайне. После нашей поездки в Лувр она уже не мечтает о триумфе зависти. Скорее наоборот, пытается упрятать меня как можно дальше. Будто я не победа, а главная из ее ошибок, свидетельство поражения. Один мой взгляд – непоправимый урон для репутации непобедимой Цирцеи. Одним словом, мне не следует кому бы то ни было попадаться на глаза. Начало дня, первые сумрачные часы – самые подходящие для пленника. Весь замок спит. Гости, после ужина и танцев, долго не покидают своих спален. Их примеру следуют утомленные слуги. Только кухарка на цыпочках спускается вниз, чтобы развести огонь. С ней заспанный, взъерошенный поваренок. Воду и съестные припасы доставили накануне вечером, чтобы на рассвете не тревожить благородных постояльцев стуком колес. Я сам, без совета Липпо, предпочел бы это время, не решился бы стать действующим персонажем пьесы. Нет нужды ужесточать надзор и прятать меня в тень, я сам – ее порождение.
Почерк у Липпо корявый, прыгающий, будто птичий. Так и вижу его огромную длиннопалую пятерню с утонувшим в ней пером. Он держит его всей горстью, вывернув ладонь набок. В слове «прогулка» у него две ошибки. «Прэгулга». Меня это забавляет, как неуклюже подрисованная рожица или тайный дружеский привет, скрытый в чопорном рецепте. Что ж, прэгулга так прэгулга. Советом пренебрегать не стоит. Я не покидал комнаты с момента появления гостей. А мне, как узнику, положены прогулки. Вот я и воспользуюсь правом. Любена я не предупредил накануне, и он самозабвенно храпит поперек двери в гостиную. Я переступаю через него и крадусь к черной лестнице. По ней я спущусь на кухню, где кухарка уже согрела воду. Там умоюсь и съем кусочек запеченного яблока с ореховой крошкой. Их вчера подавали на десерт. Любен сетовал, что почти ни одного не осталось, но старая Эсфирь всегда прятала для меня лакомства в буфете. Не уверен, что она позаботилась обо мне и на этот раз, но поманить себя среди дремы и влажной осенней прохлады очень действенный метод. Я и прежде так делал, в бытность свою студентом. Выдумывал на рассвете, когда день подкатывался мукой, какой-нибудь приятный, легко достижимый приз, вывешивал его, как морковку, и бежал за ним, невзирая на холод и замерзшую в тазу воду. Чаще всего это была свежеиспеченная хрустящая вафля или слоеная трубочка, свежий аромат которой доносился из ближайшей лавки. Я выскальзывал из-под одеяла, взламывал ледок и, невзирая на дрожь, укрощал влажным полотенцем разнежившуюся плоть. Зуб на зуб не попадал, но я дразнил себя сдобным видением и чувствовал на языке почти липкую ванильную сладость. Если в кармане находилась мелочь, видение обретало вкус, форму и тяжесть в желудке. Я чувствовал себя вознагражденным и отправлялся дальше, по часовому кругу, почти счастливым. Если же мелочи не находилось, я перемещал видение в следующее утро и там уж клятвенно обещал себе награду. Здесь на роль утешительного приза, приманки для будущего, мало что годилось. Пресная вафля более не имела той ценности, которую ей приписывал невыспавшийся студент, мне необходим был другой приз, сладость, которой я уравновесил бы предстоящий день. Утро, если его подсластить, уже не пугает. И день за ним прокатится незаметно. Я не думаю о том, что будет дальше, не воображаю длинный вечер в ожидании герцогини, я вижу только укрытый под серебряной крышкой запеченный, в медовом сиропе, плод. Я найду его в потайном месте и угощу тоскующий рот. Запеченных яблок не нахожу, но на полке в буфете, там, где условлено, сливовый пирог, фруктовое желе и тягучий засахаренный дягиль, доставленный из монастырей Пуату. И вода уже согрелась.
Осеннее утро негостеприимный хозяин. Хмурится в ответ на приветствие, клубится промозглым туманом. Листья за ночь отяжелели и уже не блестят – умирают. Я тревожу их башмаками, переворачиваю, приминаю, но они поддаются без хруста, как отсыревший ворс ковра. Часть их еще крепится на ветвях, но уже поникла и готова сдаться. Цвет – позолота со ржавчиной. Я обхожу пруд, темный, с теми же бурыми лиственными трупиками на поверхности, и отправляюсь мимо цветника в буковую аллею. Она почти не просматривается из замка. Даже сейчас, когда листья уже опали, ветви деревьев переплетены так густо, что разглядеть что-либо из окон почти невозможно. Скоро станет светлее и кто-нибудь подойдет к окну. Но различим лишь силуэт. Слева от меня вроде каменного цоколя с колонной. Это остатки павильона, который был разрушен испанскими наемниками герцога де Гиза в 1585 году. Ее высочество, получив Конфлан в качестве приданого, почему-то не позаботилась о восстановлении этого грекоподобного сооружения, и на его месте осталась только одинокая обезглавленная колонна. Ее почти до вершины оплел дикий виноград, и она казалась пойманной в некие волшебные сети. С наступлением осени эта сеть превращалась в дырявую пурпурную мантию на плечах мраморного исполина. Я часто приходил сюда и воображал себя блуждающим в развалинах Парфенона. Мне даже виделись в мраморных разводах таинственные, нечитаемые знаки, ибо по легенде, совершенно безосновательной, этот продолговатый кусок мрамора был и в самом деле привезен из Афин. Я не находил доказательств этой легенде, но воображал ее документально изученной, а следовательно, подтвержденной. Взявшись за жизнеописание Ликурга или Фемистокла, я призывал молчаливую колонну в свидетели. Вот и сейчас я по привычке иду к ней. Побродить, подумать. Вспомнить и даже произнести вполголоса несколько строк. Мне этот жалкий обломок представал то разрушенной Троей – «…и у стен Илиона / Племя героев погибло – свершилася Зевсова воля», то стенающим Карфагеном – «Carthago delenda est»56, то разграбленной, лишенной струн Эоловой арфой. Жалкое доказательство минувшей славы.
– Доброе утро.
Я едва не подскакиваю от неожиданности. Оборачиваюсь. Передо мной – женщина, на первый взгляд незнакомая. Плащ подбит лисьим мехом. На руках тонкие лайковые перчатки. Под капюшоном рыжий задорный локон. Жанет! Княгиня Караччиолли, самозваная принцесса д’Анжу. Смиренно сложив руки, улыбается. Глаза таинственно блестят. Я не слышал ее шагов. Она ступила ко мне прямо из тумана, из-под белесой завесы, не потревожив башмаком лиственный саван. Будто веса в ней не больше, чем в облаке. А может быть, она только что сотворила свое тело из подвернувшихся ей лоскутков, прохладных капель и сумрачных теней?
– Как… вы?.. Почему? Что вы здесь делаете?
– Я кое-что забыла… В нашу первую и последнюю встречу, у меня не хватило времени.
– Но как вы?..
И тут меня осеняет. Липпо! Ну конечно же, интрига продолжается. Его совет прогуляться на рассвете все равно что вызвать меня на свидание. Он дал мне эту рекомендацию с ведома Жанет или даже по ее просьбе. Какая пьеса! А я и не догадывался.
– Вы знали, что я приду, – срывается с моих губ. – Рано утром. Понятно, это Липпо. Но откуда вы узнали, что именно сюда?
– Ваш парень подсказал, этот… как его… Любен.
– Любен?! Не может быть! Но…
– Как мне это удалось? Это несложно.
Она извлекает из расшитого кошелька, который красуется у нее на поясе, золотую монету и подбрасывает ее в воздух. Ловит и раскрывает ладонь. Монета блестит унылым монаршим профилем. Ее коронованный брат скучающе пятит губы.

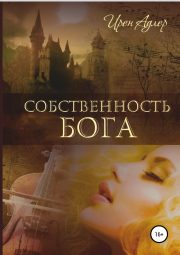
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.