Он смешивает что-то из двух склянок и добавляет в раствор желтоватый порошок. Серебряной ложечкой доводит полученное лекарство до чуть пенистой единородной массы и дает мне выпить. Пахнет пряностями и на вкус остро-сладкое.
– Это настоянные в меду лимонные корки с имбирем, – объясняет он с улыбкой. – Противорвотное. А теперь подумаем, что делать с вашей головой.
– Отрубить, – тихо советую я.
– Это мы всегда успеем. Начнем с чего-нибудь попроще. Вот хотя бы с этого.
Из разложенных перед ним предметов Липпо извлекает плоский, продолговатый футляр. Я подозреваю в нем наличие ланцета или другого особой формы ножа, но там оказываются длинные золотые иглы. Они похожи на крошечные шпаги с двуручной гардой, но без эфеса.
– Полагаю, figlio mio50, вам еще не доводилось видеть подобных приспособлений, и вы уже задаетесь вопросом, не намерен ли я их как-нибудь применить. Так вот… Намерен!
– Будете загонять мне под ногти?
– Только если вы сами меня об этом попросите, – отвечает он. – Для обращения еретиков они пригодны точно так же, как пригоден для разбоя кухонный нож, но назначение у них другое.
Он опять берет меня за руки и разминает мои ладони, пока я не начинаю чувствовать тепло. Затем смачивает с тыльной стороны между большим и указательным пальцами прозрачной жидкостью из длинной бутыли темного стекла.
– А теперь не пугайтесь, – говорит он, берясь за одно из крошечных орудий. – Я все объясню позже.
Я не пугаюсь. Напротив, мне любопытно. К тому же я и мысли не допускаю, что этот нескладный, длиннорукий итальянец может причинить мне боль. Впрочем, какая боль может сравниться с той, какую я уже чувствую. Он щелчком вкручивает иглу в тыльную мякоть под указательным пальцем. А на другой руке – вторую. Выглядит устрашающе, но я чувствую только легкий укол.
– Не больно, – говорю я.
– Хм, смею предположить, что в заблуждениях вы не раскаетесь.
– Нет.
– Тогда придется проделать то же самое с вашими ногами.
Он откидывает одеяло в сторону и точно так же, как прежде разминал кисти моих рук, растирает мои застывшие ступни. Так энергично давит пальцами, что я вздрагиваю. Он перебирает мои сочленения так умело, будто следует атласу Галена или справочнику Везалия. Кожу он так же смачивает жидкостью из бутыли и повторяет манипуляцию с иглами.
– Более не буду пугать вас, юноша. Никаких других приспособлений из арсенала Сант’Анжело51. Всего лишь согревающий бальзам.
Он опять что-то достает, переливает, смешивает. На кончике золотого шпателя я вижу полупрозрачную мазь. Резко пахнет камфарой и гвоздикой. Примешиваются другие терпкие ароматы, но они мне незнакомы. Он поддевает немного пахучей мази длинным пальцем и коротко, энергично давит мне между бровей, где-то за ушами и над верхней губой. Я чувствую проникающее тепло, как будто на коже вспыхивают крошечные угольки. Тепло растекается, охватывает всю голову, опускается по телу вниз от затылка, вдоль позвоночника, распадаясь на узкие и широкие полосы. Это тепло баюкает и утешает. Веки у меня тяжелые. Но это не свинцовая тяжесть боли, а благодатная сонная муть. Даже зверь в моей голове укорачивает прыжок. Он движется все ленивей, все размеренней, круг, который он вычерчивает, постепенно уменьшается и обращается в точку. Зверь, свернувшись, засыпает.
– Ну вот и все, юноша, – говорит Липпо, избавляя меня от иголок. – Теперь можете поспать. Вы, по всей видимости, не только два дня не ели, но и не спали.
Он сбрасывает все разложенные на столике склянки и мешочки обратно в свою безразмерную холщовую сумку.
– По-хорошему нам бы следовало встретиться еще раз. Но тут уж не нам решать.
– Где вы этому научились?
Он оборачивается ко мне почти с изумлением.
– А вы любознательны, figlio mio52.
– Как все узники.
– Ну-ну, юноша, не преувеличивайте. Ваш недуг не настолько значителен, чтобы соперничать с месье дю Трамбле53. Это легкое недомогание, с которым вы легко справитесь. Но сейчас вам лучше не утомлять себя разговором и не слушать мои выдумки. Отдохните, а затем погуляйте. Вы молоды, но у вас…
– Да, я знаю, у меня кожа тонкая.
Я не пытаюсь его разубедить. Он ничего не знает обо мне, и это к лучшему. Он здесь только потому, что… Липпо уже заканчивает сборы, когда мне в голову приходит странная мысль.
– Вы ведь врач княгини Караччиолли и прибыли по ее приказу…
– Да, так оно и есть. Santa Maria e tutti santi!54 Вытащили из постели посреди ночи! В седло, галопом. Весь зад себе отбил!
– Так она больна? Что с ней? Анастази сказала, внезапная головная боль.
Липпо морщится, будто откусил что-то кислое.
– У нее? Головная боль? Uncorno!55
Он снова водружает сумку на стол и склоняется к самому моему уху. Предварительно оглядывается по сторонам.
– Нет у нее никакой головной боли. И не было.
Заговорщицки подмигивает и на прощанье хлопает меня по руке.
Глава 10
Его кожа останется гладкой, нетронутой. На ней все так же зазывно будут плясать тени, то скрывая, то подчеркивая совершенство линий. Он по-прежнему желанен, цвета золотистого плода, с черным шелком спутанных волос, в переплетении натянутых жил и связок. Но где-то в глубине его разума, за туманом зрачков, происходит черная работа, где-то иглы вонзаются, извлекаются, смачиваются кровью и вновь погружаются в эфирную плоть, где-то проступает несмываемый, неизлечимый рисунок.
Его давно нет, а голос все звучит. «Нет у нее никакой головной боли». Как же это? Зачем же тогда она посылала за ним? Прихоть? Каприз? Не пожелала воспользоваться услугами Оливье? Так бывает. Знатные дамы не доверяют чужим врачам. Их удерживает природная стыдливость. Врач, как и духовник – хранитель тайн. Он свидетель и участник самых важных событий – рождения и смерти. Ему поверяют стыд. Врач видит своего пациенты разоблаченным, без покровов, в первородном грехе. Женщине допустить это трудно. Жанет д’Анжу, безрассудная и отчаянная, может оказаться стыдливей монастырской затворницы, для которой нет испытания мучительней, чем доверить свою тайну мужчине. Она почувствовала себя дурно и послала за своим врачом. Это естественно. Но почему Анастази говорила так странно? Голос у нее прерывался. И фразы звучали как заученные. Она притворялась, но готова была шумно выдохнуть и признаться. Что она скрывает?
«Нет у нее никакой головной боли. И не было».
Но если не было, то зачем? Зачем Жанет посылала за своим лекарем? Не затеяла же она все это ради меня?! Я качаю головой в ответ на собственные мысли. Какая самонадеянность! Чтобы знатная гостья пустилась ради меня в такие рискованные хлопоты! Инсценировать собственную болезнь, отрядить гонцов, убедить Анастази… Нет, это невозможно. Ради чего? Это было бы объяснимо, будь я тайным наследником престола или обладателем сокровищ. Но я – всего лишь чужой любовник. Тогда зачем? Заслужить благодарность сестры? Это не так уже невероятно, как может показаться. Жанет вернулась во Францию после многолетнего отсутствия, она здесь чужая. Поддержка сестры, Клотильды Ангулемской, означала бы лояльность королевы-матери и партии принцев. Оказав небольшую услугу, вылечив меня, Жанет получила бы право на дружеский прием, ее признали бы равной. Я не могу объяснить ее неожиданную любезность по-другому. Нет у меня аргументов в пользу другой версии… Если только… Но это и вовсе невероятно! Она меня… пожалела? Меня, безродного, жалкого узника, пожалела знатная дама. Пожалела женщина, которую с герцогиней связывают кровные узы, дочь того же венценосного отца, почти двойник, копия. Поверить в это все равно что поверить в чудо. А я давно не верю в чудеса. Так же как не верю в Бога. И вот мне снова предлагают поверить в воскресение Лазаря, подойти к пещере и отвалить камень. Забавно. Что же это получается? Жанет д’Анжу, разыгрывая спектакль, спасает меня от мигрени? Она или сошла с ума, или… или… Не знаю, что «или».
Если она притворялась, то мастерски! Я помню ее нежные, теплые пальцы, ее встревоженный взгляд; помню, как она склонялась надо мной, как шептала слова утешения… И мне становилось легче, честное слово! Я мог оказывать сопротивление, мог дышать. Я слышал стук ее сердца, прямо над головой, как слышит сердце матери нерожденный младенец. Я не мог ошибиться, и она не могла сыграть так искусно. Да и зачем ей было играть? Ни просьбы, ни угрозы, ни выгоды. Она могла отступить, брезгливо подобрав юбки, и дожидаться рассвета в стороне. Но она предпочла разделить это со мной, спустилась по той же лестнице и удерживала на самом краю. Но зачем? Я не понимаю… не понимаю. Если нет заговора, нет первоначального плана, то… Ах, что же я голову ломаю! Да просто все – она позабавилась. Оказалась в доме успешной, самоуверенной родственницы и обнаружила красивую игрушку. Чем не начало сюжета? Да и средство обмануть ревнивую сестрицу нашлось – моя очень кстати пришедшаяся болезнь. Осталось подослать переодетого доктора. Или даже обрядиться в этот костюм самой. Чем не сюжет для уличного театра? Герцогиня Ангулемская в роли рогатого мужа, надутого, важного доктора права, Анастази – Смеральдина. Липпо, разумеется, – Бригелла. Любен – Труффальдино, а я… Кто же тогда я? Тут выходит небольшая путаница. Согласно законам жанра у профессора права есть юная супруга, Лючинда или Джульетта, которую он отчаянно ревнует. У супруги тайный воздыхатель. Всеми правдами и неправдами он пытается проникнуть в дом, где ревнивый муж прячет свое сокровище. В ход идет подкуп, переодевание, сонное зелье и, в конце концов… В конце концов ревнивый тиран обманут, и влюбленные соединяются. Но в нашей пьесе все поставлено с ног на голову, я выступаю в качестве приза, а сеньор Панталоне – в женском обличье. Воображаю герцогиню в судейской мантии, в черной скуфейке и помимо воли начинаю смеяться. И хохочу все громче. Она позабавилась, но как изящно, как ловко. Псевдоученый доктор права, надутый и важный. Рогоносец. На звук моего смеха появляется Любен и таращится на меня с испугом. Как же он соответствует своей роли! Сеньор Труффальдино. От смеха не могу вымолвить ни слова. Любен бросается ко мне.

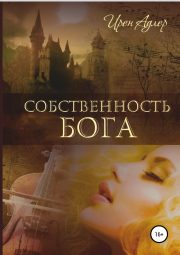
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.