Опустошив мои вены до головокружения и звона в ушах, Оливье все с тем же скучающим и раздраженным видом разводит для меня маковую настойку. К охватившей меня слабости это добавит тяжелый, принудительный сон. Я провалюсь в небытие и перестану чувствовать боль. Вынудив меня проглотить лекарство, Оливье величественно удаляется. Не мне упрекать его за жестокосердие. Я и в самом деле доставляю ему столько хлопот. По милости моего упрямства и моей вспыльчивости он ежечасно слышит угрозы. Мои раны и даже моя болезнь – это плоды непростительного легкомыслия. Я сам, по собственной воле, из глупого каприза, навлекаю на себя все эти напасти, а он, рискуя благополучием и даже жизнью, вынужден меня врачевать. Вполне уважительная причина для неприязни.
Любен ко мне более снисходителен. Хлопочет, не затрудняя себя оценкой моих действий: опускает портьеры, укрывает мне ноги, поправляет подушку. Робко осведомляется, не подать ли мне завтрак. Но я качаю головой. Меня снова мутит. Если приступ повторится, то к утру начнутся позывы к рвоте. На пустой желудок это не так мучительно. Вскоре настойка действует, и я засыпаю. Сон – как душная вязкая трясина, на поверхности которой блуждают синеватые огоньки. Это меня поджидает обманутая небытием болезнь. Она только начала свою трапезу. Голод ее не утолен, аппетит разыгрался как после острой закуски, а я, в самый разгар пиршества, ее отвлекаю.
Действие опия кончается, и я сразу получаю удар. Огненный, скрученный в спираль жгут. Он ворочается у виска, извивается, задевает глаз. Я стараюсь не двигаться и дышать как можно реже. Утешаю себя тем, что это скоро пройдет. Omnia transit45. Дольше трех ночей это не длится. Надо переждать, перетерпеть и не пугать Любена своим стоном и бледностью. Если он увидит, как я страдаю, то кинется к Оливье. А тот снова пустит мне кровь и оглушит опием. Мои вены на руках в сплошных рубцах и насечках; когда Оливье орудует ланцетом, я слышу, как скрипит затвердевшая, воспаленная плоть. Я должен сжалиться над моими руками и поберечь свои жилы.
День проходит. Любен ходит на цыпочках. Портьеры опущены, но я все же слышу лай собак и звук охотничьего рога. Гости отправляются на охоту. А вечером снова зазвучат скрипки. Где-то там, в нарядной, беззаботной толпе, моя незваная гостья. Седлает своего рыжего жеребца, дитя марокканской пустыни, вскакивает в седло и мчится, мчится… А вечером, облачившись в зеленый шелк, танцует и смеется. Она ничего не помнит.
Вот и вторая ночь. Пытаюсь обойтись без кровопускания и макового настоя. Запертый в собственном теле, наблюдаю, изучаю повадки хищника. Боль, возможно, как и все прочие наши хвори, – всего лишь изголодавшийся пришелец. Это зверь, который охотится во мне, подобно тому, как в лесу охотится волк. Он выслеживает добычу. Зверь движется, извивается, сворачивается в кольцо, совершает прыжок, крадется, скребет лапами. Я занят тем, что угадываю его облик, но это существо бесконечно меняет формы. Ни один из предполагаемых образов ему не нужен. Он желает обладать всеми сразу. Предвидеть следующее превращение я не в силах. Узнаю его облик за мгновение, успеваю сделать набросок, чтобы отойти в сторону и наблюдать. Дыхание короткое, поверхностное. Я затягиваю выдох, чтобы усилить сосредоточение и обозначить паузу. Сожрёт ли он меня? Куда он направится дальше? Моя голова уже обглодана, выжжена изнутри. Клык, ядовитый и мокрый, скребет самую кость. К утру я почти в забытьи. Это не сон – это спасительный обморок. Я скрываюсь от зверя.
Внезапно я слышу голоса и шаги. В спальне вновь Анастази, но не одна. За ней следует Оливье и еще кто-то, мне неизвестный.
– Вот, сеньор Липпо, это тот самый больной, о котором я вам говорила.
Я перевожу взгляд с одного на другого. Вероятно, незнакомца зовут Липпо. Кто он? Еще один незваный гость. Визиты их участились. Гость очень худ и невероятно высок. Волосы всклокочены, кожа смуглая. На вид не старше сорока. Одет пестро, невпопад, как будто собирал предметы своего туалета по друзьям и соседям. На плече – холщовая сумка. Сразу и не поймешь, кто он. Лицедей? Или шарлатан? Один из тех кто, по прибытии в город, приглашает всех желающих избавиться от зубов, морщин и бородавок? Я изумлен, Оливье не скрывает ярости и презрения.
Анастази, едва справляясь с голосом, объясняет:
– Мадам д’Анжу почувствовала себя дурно, внезапная головная боль. Так как ее светлость не доверяет никому, кроме своего личного эскулапа, то пришлось отправить нарочного в Париж и просить сеньора Липпо срочно прибыть в Конфлан. Вот он и прибыл.
Липпо… Липпо… Знакомое имя. Где я его слышал?
– После визита к ее высочеству, страдания которой, к счастью, были не столь уж велики, я воспользовалась случаем и обратилась к ней с просьбой позволить сеньору Липпо принять участие в маленьком консилиуме. Если кроме одного врача есть еще и второй, то почему бы им не устроить маленький совет?
Оливье не то фыркает, не то покашливает. В сторону пестро одетого коллеги с холщовой сумкой через плечо он даже не смотрит. Пришелец переступает с одной длинной ноги на другую и потирает затылок.
– Для начала я бы хотел осмотреть больного, – неожиданно музыкально произносит сеньор Липпо.
Он говорит с чуть заметным южным акцентом, растягивая и округляя звуки. Удивительный голос в таком угловатом теле.
– Да, разумеется, – соглашается Анастази. – Приступайте немедленно.
– Но я бы предпочел остаться с молодым человеком наедине, – добавляет гость с легким поклоном. – Возможно, мне придется задать несколько ммм… щекотливых вопросов, а молодой человек в присутствии дамы, такой прекрасной сеньоры, будет несколько стеснен в ответах.
Оливье выражает свое презрение кудахтаньем, но Анастази не возражает.
– Это ваше право и ваша обязанность, сеньор Липпо. Оставайтесь и действуйте с благословения этого… вашего… как его?
– Асклепия, – с улыбкой подсказывает он.
– Именно.
– И правнука его Гиппократа.
– Я бы на вашем месте больше уповал на Меркурия, – скрипит Оливье.
Анастази толкает его к двери и сама семенит следом. Я слышу, как они пересекают мой кабинет, гостиную и переговариваются с Любеном. Гость тем временем придвигает табурет к моему изголовью.
– Ну-с, молодой человек, говорят, у вас мигрень…
Он наклоняется надо мной и разглядывает. Глаза у него круглые, совиные, да и сам он похож на большую, голенастую птицу, утратившую в драке или в непогоду часть своих перьев. Он вытягивает жилистую шею и забавно вертит головой.
– Дайте-ка вашу руку. Нет, лучше две.
Я протягиваю руки. Он бережно закатывает мои рукава. Я разочарованно вздыхаю. Будет выбирать, какую вену лучше вскрыть. И стоило его приглашать… Оливье отлично с этим справляется. Но Липпо не спешит вооружиться ланцетом. Он держит мои руки в своих и внимательно их рассматривает. Даже просит разрешения приподнять портьеры, чтобы осветить комнату. Осмотр он начинает с моих ногтей. Изучает каждый поочередно. Поворачивает мои руки так и этак, будто ценитель драгоценных камней в ювелирной лавке или знаток редких тканей, стремясь уловить блеск шелка. Затем так же внимательно изучает ладони, запястья и добирается до сгиба локтей, где находит свежий след от разреза на одной руке и несколько затянувшихся отметин – на другой.
– Figlio di putana!46
Я не совсем уверен в переводе, но догадываюсь, что этот нелестный отзыв предназначается Оливье. Далее осмотр сопровождается хмыканьем и перемещением кустистых бровей от середины лба едва ли не к подбородку. Кроме следов ланцета на моих руках множество других следов, которые способны породить какие угодно предположения. Хотя бы те два параллельных шрама на левой руке. И хорошо заметный след на правой ладони. Это могло навести на мысль, что я хватался голой рукой за лезвие, а рубцы на запястьях – что я беглый каторжник. Вот он уже и подумал!
– Che cazzo?!47
Это он еще моего плеча не видел. Но вопросов Липпо не задает. Только качает головой. Затем сразу на обеих руках ищет пульс, что удается ему не сразу по причине моего неумышленного малокровия. После обильного кровопускания мои жилы полупустые. Ему приходится долго прислушиваться. Он даже закрывает глаза и сам почти перестает дышать. Я чувствую, как он поочередно меняет силу нажима на моих руках, то слева, то справа. Как на музыкальном инструменте играет, и каждая из вен подает ему свой голос. Он прислушивается к самому течению моей жизни, ко всему, что во мне происходит: к дыханию, к наполнению желудочков, к сокращению мышц. Как будто многоопытный музыкант ищет фальшивую ноту. Это своеобразный язык, на котором тело может поведать ему о своих бедах. У Липпо шевелятся губы и двигаются брови. Похоже на то, что он не просто слышит, но и отвечает на эти жалобы. Наконец он отпускает мои руки, промаргивается и довольно долго на меня смотрит. Вдруг вскакивает и одним взмахом скидывает все с маленького столика у моего изголовья. Вытаскивает его на свет и начинает выгружать на столешницу содержимое холщового мешка. Действия он сопровождает злым, отрывистым шепотом. Я снова слышу «cazzo», «bastardo»48, «canaglia»49, которые он нанизывает гроздьями на короткие фразы. Я не совсем понимаю, что служит причиной его гнева, но спросить не решаюсь. Возможно, так он выражает профессиональное презрение к конкуренту. У врачей это принято. Любой, кто не разделяет их мнения, становится ренегатом и мерзавцем. У меня даже мелькает мысль вступиться за беднягу Оливье. Он не так уж плох, а за те три года, что ему приходится иметь дело со мной, он давно уже исчерпал все средства, способные вернуть меня к жизни.
– Юноша, когда вы ели в последний раз?
– Не помню, кажется, третьего дня…
– А пили? – Пару глотков сегодня. Больше не смог… У меня…
Но Липпо в моих объяснениях не нуждается. Он делает предостерегающий жест.
– Не оправдывайтесь, юноша. Если вы проглотите лишний кусок, у вас откроется рвота. Это ясно.

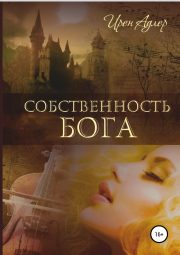
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.