– Тише, тише, – повторяет Жанет. – Немного покоя, и все пройдет. Боль утихнет.
Пальцы ее второй руки вкрадчиво перемещаются от моего виска к затылку, стремясь занять мою кожу осязанием. Это как отвлекающий маневр для беснующейся внутри боли. Она подманивает зверя, стремясь увести его за собой. Поглаживает, перебирает волосы, описывает круги, иногда задерживается в только ей ведомом сосредоточении страдания и своим касанием, мягким нажатием успокаивает и усыпляет. Боль по-прежнему раздирающая, давящая изнутри, но с помощью ее рук я как-то умудряюсь с ней ладить. Тот путник, которого смыло волной, находит хрупкую, неведомую опору и повисает на ней. Ищет спасения в неподвижности. Боль не отступает, и натиск ее все так же силен, но я в силах обороняться. Будто за моей спиной долгожданный резерв. Всего лишь сила ее присутствия, тепло руки. Оказаться рядом со мной над ликующей бездной она не может, но все же часть этой ярости отводит на себя. Вероятно, она делает это так же, как делаю я, когда беру на руки плачущую, страдающую от колик Марию. Безмолвное, глубинное соучастие.
Длится это час или вечность – я не знаю. В страданиях время замедляется и почти замирает. Из быстроногого гонца оно обращается в дряхлого, немощного калеку. Костыли его скрипят и готовы надломиться, он с трудом преодолевает минуты, а часы тянутся до горизонта, обращаясь в неподвижное марево. Горе тем путникам, что следуют за ним. Он готовит их к вечности. Обитель безвременья, откуда изгнана даже смерть. Но я слышу звуки. Сквозь жужжание, грохот и вой. Кажется, шаги. Любен? Меня ужасает предчувствие, что Жанет придется встать, а мне – пошевелиться. Она уберет руки с моей пылающей головы, а я вынужден буду оторвать эту голову от пола, раскачать, разогнать раскаленный чугунный шар, который кое-как утвердился в неподвижности. Стоит мне двинуться, как этот шар подскочит и ударит изнутри в глаза и виски.
Кто-то идет. Голос. Но это не Любен. Это Анастази!
– Святая Дева! А вы что здесь делаете? Как вы сюда попали?!
Она не говорит. Она почти кричит. Ржавый, тупой клинок, который Анастази загоняет мне в уши. Но Жанет не шевелится. Она отвечает, но я скорее угадываю, чем слышу.
– Тише, черт… Говорите тише.
Анастази, к счастью, больше не кричит. Для нее происходящее не новость, она уже видела, как я корчусь от боли. Я слышу шум ее платья, ощущаю движение воздуха. Как же сильно она надушена! Никогда не замечал за ней этого пристрастия к парфюмерным излишкам.
– Что с ним?
Анастази говорит злым шепотом. Я чувствую ее руку на моем запястье.
– Мигрень. Приступ внезапный и сильный.
– Опять…
– Мороженое, – вдруг говорит Жанет. – Принесите мороженое.
– Зачем?
– Принесите! – яростно шепчет Жанет. – Быстрее.
Удивительно, но придворная дама не возражает. Опять шумят ее юбки. Скорей всего, она пришла через потайной ход, от которого у нее есть ключ. Заметила в толпе слуг Любена и догадалась, что я остался один. Герцогиня тоже занята с гостями. Анастази могла разглядеть недовольство на лице ее высочества или та посетовала на мою строптивость. Вот придворная дама и вознамерилась взглянуть на последствия. Но мороженое?!
– Зачем мороженое?.. – спрашиваю я, хотя усилие горловых мышц тут же отзывается болезненным эхом.
– Молчите, – предостерегает Жанет. Но все же объясняет. – Мороженое поможет. Сладкое и холодное. Надо прижать его языком к нёбу и держать, пока не растает. Оно охладит изнутри ту воспаленную часть мозга, которая служит источником боли. Это, разумеется, не лекарство. Только помощь. Как лед при ожоге.
– Никогда не слышал, – шевелю я губами.
– Некий Теофраст фон Гогенгейм44 прописал это средство своему другу, издателю из Базеля. Над ним, конечно, потешались, обвиняя в шарлатанстве, но средство сработало. А мой личный врач большой знаток в области шарлатанства.
Я слышу, как возвращается Анастази, так же шумно, вонзая каблуки в пол, но, переступив порог, смягчает шаг. Она снова рядом, и я снова слышу запах ее духов. Тонко позвякивает серебряная ложка.
– Дайте сюда, – приказывает Жанет. Это она обращается к Анастази, а потом – ко мне. Одна ее рука по-прежнему у меня на глазах, а второй она, вероятно, держит ложку. – Не глотайте сразу. Держите, пока не растает.
Я послушно исполняю все, что она велит. Почти не чувствую ни вкуса, ни холода. Сверлящая боль, кажется, поселилась в самих зубах, в каждом по отдельности, ворочается там тонким сверлом. Тает первый кусок, за ним – второй. А после третьего – о чудо! – я узнаю вкус. Это миндальный замороженный шербет с ванилью. После пятого куска я мягко повожу головой, очень осторожно, будто она редкий, тонкостенный орех, и открываю глаза. Пелена окончательно не спала, но я вижу. Жанет, распознав мое движение, убирает руку. Я моргаю, морщась от ломоты в затекшей шее. Молний, ударяющих в висок, нет. Боль сдала позиции, но окончательно не отступила. Напоминает лампу под покрывалом. Ждет, когда препятствие будет устранено. Но я приподнимаюсь на локте и оглядываюсь. Моя незваная гостья сидит на полу рядом со мной в довольно неудобной позе, полусогнув колени. Это та поза, которую она приняла, смягчая мое падение. Сменить ее она не успела. Все это время, поддерживая мою голову, ей приходилось держать руки на весу и напрягать спину. Лицо у Жанет хмурое и встревоженное. Меж бровей складка.
– Лучше? – спрашивает она.
Я отвечаю медленным кивком и хочу подняться, но она предостерегающе хватает меня за плечо.
– Не спешите. Шербет – не лекарство, это помощь, временное облегчение.
Анастази тоже рядом, с серебряной вазочкой в руках. И такая же хмурая и настороженная. К тому же она растеряна. Бросает изумленные взгляды в сторону Жанет. Злится и мучительно ищет выход. А незваная гостья не выказывает и признака смущения.
– Подождите, – говорит она. – Мы вам поможем.
В это «мы» она без колебаний включила придворную даму своей сестры. И Анастази подчиняется, безропотно, с застывшим лицом. Помогая мне подняться, они действуют на удивление слаженно. Будто знакомы давным-давно и даже дружны. Они поддерживают меня и не дают упасть. У меня кружится голова, я двигаюсь, как под водой, преодолевая собственную слабость. Они помогают мне добраться до кровати и примостить на подушку мою бедную голову с чугунным ядром внутри. Анастази стягивает с меня башмаки. Жанет укрывает одеялом.
– Ему нужен врач, – говорит она. – И полный покой.
Анастази в ответ только презрительно хмыкает.
Они еще о чем-то говорят, но я не слышу. Говорят они шепотом, но зло и отрывисто, как будто бранятся. Анастази выговаривает ей за легкомыслие, Жанет оправдывается. Их шепот переходит в шипение и свист. Они спорят. Я разбираю некоторые слова, но не прислушиваюсь.
– Уходите, уходите… Вы не понимаете!
Лежать удобно, но не оставляет сожаление. Я теперь один, лицом к лицу со своим грозным противником. Пройдет некоторое время, и он вновь начнет крушить мои ветхие латы железной палицей. Но бодрящего возгласа с трибун я уже не услышу. Анастази теснит Жанет к двери и почти выталкивает ее наружу, в тесный потайной коридор. Я пытаюсь приподняться, поблагодарить ее хотя бы взглядом. Она тоже встает на цыпочки, выглядывает из-за плеча Анастази. Блестят ее глаза, все такие же тревожные и пронзительные. Обеспокоенное лицо с острым подбородком. Потом ее заслоняет Анастази, и дверь захлопывается. Наступает тишина. Я еще слышу удаляющиеся шаги за дверью. Потом они стихают. Пусто.
Глава 9
Накануне, перед самым рассветом, герцогиня осмелилась переступить тот тайный порожек, который внезапно приобрел значимость огненного рубежа. У изголовья, ссутулившись, сидел слуга. Как бесшумно она не ступала, огромный парень все же поднял голову. Он сделал было попытку подняться, когда узнал ее, но герцогиня резким движением запретила. Этот деревенщина мог опрокинуть табурет, на котором сидел. В комнате почти непроглядный мрак. Портьеры плотно задернуты, чтобы и луна своим серебряным шепотком не нарушила бы спасительную тишину, которую, будто толстую повязку, наложили поверх воспаленного разума. Геро дышал коротко, отрывисто. Его насильственный сон тоже был вроде повязки или, скорее, наложенных на безумца пут. В действительности никакого сна не было. Была тяжелая, душная пелена, в которую он был закутан, под которой был погребен, как взметнувшийся огонь под чугунной крышкой. Внешне эта пелена выглядит огнестойкой, она подавляет бушующий огонь, но против самого огня эта пелена бессильна, ибо крышка над очагом из олова. Пелена прогорит и обмякнет, а пламя вновь вырвется наружу. Пламя боли. Пока эта крышка цела, боль исходит невидимым чадом страданий. Этот чад сгущается, поднимается к потолку, образует замысловатые фигуры. Затем это темное полотнище провисает лохмотьями, и лохмотья эти множатся, выпуская бесформенные ростки, оплетая всю комнату, как неистребимый плющ.
Вбегает напуганный, взъерошенный Любен, вероятно, с устрашающим выговором от Анастази. За ним, ступая медленно, как цапля, в привычном раздражении, Оливье. Он окидывает меня взглядом, полным неизбывной скуки. Я неугомонный, неистощимый источник его хлопот, неудачное творение, которое он постоянно вынужден подправлять. Как же это утомительно! Он даже не затрудняет себя исследованием моего пульса, его частоты и наполнения. Закатывает мой рукав и ланцетом вскрывает вену. Единственное средство облегчить мои страдания – это изгнать из моего тела как можно больше черной желчи. Стекающая в медный таз кровь действительно почти черная и очень густая. Возможно, он прав, во всем виновата черная желчь. Это она причина меланхолии. Во мне ее так много, что я не способен радоваться и принимать дары благосклонной ко мне фортуны. В моем теле нарушен баланс жизненных соков: моя кровь слишком густа, моя желчь изменила цвет, а моя флегма, покинув отведенное ей природой вместилище, заместила собой все прочие жидкости. Тут уж ничего не поделаешь, таково мое устройство. Вот только почему бедный врач вынужден исправлять это несовершенство?

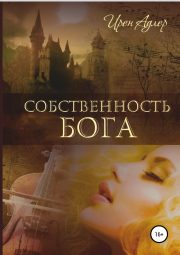
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.