– Вы только что сами ответили на свой вопрос. Любая моя попытка что-либо изменить в своей жизни грозит моей дочери смертью или… тем, что хуже смерти.
– Но ваше бездействие не менее опасно, – мягко возражает она. – Если вам нет дела до себя самого, то подумайте о ней. Она ребенок. Вам представился случай помочь самому себе, а следовательно, и ей. Не отказывайтесь от него.
– Случай – это вы?
– А почему бы и нет? Почему бы не увидеть в моем присутствии руку судьбы? Пути Господни неисповедимы.
– Вы совершенно правильно заметили несколько минут назад, ваше высочество, что я вас не знаю. Я вижу вас впервые. И вы… вы тоже ничего не знаете обо мне.
– Так это легко исправить. Если я все равно здесь, заперта вместе с вами, избавиться от меня у вас нет никакой возможности, так почему бы нам не попытаться найти выход? Поговорите со мной, поведайте мне то, что, по вашему мнению, заставит меня умолкнуть. Возможно, я не оправдаю ваших надежд и буду продолжать настаивать. Но и тогда не отвергайте меня, не действуйте столь поспешно. Я все-таки дочь Генриха Четвертого и обладаю кое-какими возможностями. Я могу быть полезна, я хочу помочь.
Меня посещает мимолетный соблазн сказать ей «да». Довериться. У нее такие ясные глаза. В них столько света. И взгляд, открытый, без мути, полный сочувствия и решимости. Какое великое искушение! Взять протянутую руку и поверить, что среди тех, кто бросает камни, внезапно оказывается тот, кто протягивает хлеб. Возможно ли это, чтобы в глухой стене внезапно открылась дверь?
Я так долго бился об эту стену, так долго искал выход, что изломал все кости. Попытки мои были бесчисленны. Но больше я не пытаюсь. Даже если стены рухнут, я не двинусь с места. Я не верю. Помнишь, что она сказала? Дочь Генриха Четвертого! У нее порыв великодушия. Она взволнована, смущена, самолюбие требует благородных жестов. Оказавшись на улице, она подает нищему серебряную монету, переступая порог церкви, она произносит молитву за страждущих, в какой-нибудь монастырской лечебнице она даже стыдится своего цветущего здоровья и благополучия. Подобный порыв время от времени испытывает каждый смертный. Это Господь говорит в нас, ибо мы желаем стать проводниками Его воли, обратиться в орудие Его Промысла. Подростком я не раз дрался с мальчишками, которые бросали камни в старого нищего или дразнили слепого. А она не раз во время охоты щадила подраненного зайца. Я для нее сейчас вот такой же подраненный зверек, ради которого она готова придержать свору. Но стоит ей выйти отсюда, она обо мне забудет. Не заметит, как спущенный сокол растерзает зайчишку. Нет, пусть уходит. Как она смеет искушать меня? Как смеет дарить надежду?
– Я уже говорил вам, мне нельзя помочь. Как нельзя помочь мертвецу.
Говорить трудно, горло саднит, и мысли путаются. Они обращаются в тех самых обезумевших от крови борзых, которые несутся по кругу. Это не похоже на опьянение, хмель я не чувствую. Только затруднение в построении фраз.
– Что с вами? – вдруг спрашивает она. – Вы так побледнели.
И делает ко мне шаг. И руку протягивает, будто желает ко мне прикоснуться. Огромный зеленый камень в ее перстне прорезает полумрак, как молния, и слепит меня. Я отстраняюсь, не отдавая себе отчета. Она в некотором замешательстве. С каким-то недоумением смотрит на собственную руку, будто та неожиданно изменила форму или обзавелась когтями.
– Не бойтесь, мне показалось, что вам сейчас станет дурно. У вас… лицо изменилось. Сядьте, – говорит она с мягким нажимом.
У меня снова возникает желание ей довериться. И подчиниться. Голос у нее повелительный и ласковый одновременно. Такой, вероятно, бывает у сестер милосердия, которые после сражения перевязывают воющих от боли раненых. Снова соблазн. Кончиками пальцев я цепляюсь за край стола. Я уже догадываюсь, откуда это свечение в уголках глаз. Оно возникло несколько минут назад, когда она упоминала о своей полезности.
– Позвольте проверить ваш пульс. Вы очень бледны.
– В этом нет необходимости.
– А мне кажется – есть.
Я еще крепче цепляюсь за стол. Ее слова как будто уже не звуки, а световые пятна. Не рассеиваются, а медленно оседают. Даже ее лицо меняется, делается уже. Только глаза горят все так же решительно. И комната уже не прямоугольник, а ромб, или даже овал. Как же я сразу не догадался! Признаки все те же. Это гемикрания, болезнь гордецов. Та боль, что впервые накрыла меня после третьего побега. Тогда это случилось в первый раз. Я и прежде испытывал головные боли, но это случалось от переутомления, когда слишком долго приходилось засиживаться за столом, в неудобной позе, всматриваться в испещренные знаками страницы, делать это часами, при свете дешевых сальных свечей. Это был протест изнемогающего тела. Глаза отказывались видеть, буквы сливались, боль строгим напоминанием била в виски. Но справиться с ней мне труда не представляло. Недолгий отдых, короткая прогулка, и разум уже был чист, а взгляд ясен. Молодость брала свое. Теперь это другое. Это не усталость, это отчаяние. Это поселившаяся во мне безысходность. Беспомощность, что кричит во весь голос. Я не позволяю им взять над собой верх, но они нашли способ мстить. Приступы удушающей, слепящей боли. Ее еще нет, она только надвигается. Я вижу далекие всполохи, как всполохи далекой бури, но я знаю, что она придет. Свет свечей меркнет. На этот раз это еще хуже, чем прежде. По крайней мере, мое зрение оставалось ясным. А тут я слепну… Но я все еще слышу голос – ее голос. Его не укрывает пелена, меняется только тональность.
– И все же я настаиваю. Дайте мне руку.
Жанет стоит очень близко. Я слышу запах ее духов. Но вместо лица – уже бесформенное пятно. Мне трудно отслеживать ее действия и одновременно с этим выстраивать оборонительный рубеж в собственной голове. Я протягиваю руку. И тут же чувствую ее пальцы. Прохладные, уверенные. Она бережно откидывает кружевной манжет и на миг накрывает ладонью мое запястье. Она непременно увидит шрамы, нащупает пальцами, когда будет искать пульс. Они жесткие, будто швы на ткани. Жанет некоторое время молчит, потом поднимает на меня глаза. Я еще различаю эти зеленые озера с золотистыми берегами.
– Частит, – говорит она очень серьезно.
– Что с того? Я привык.
– Как же вы живете?
– Разве живу?
Вот прибавилось какое-то жужжание. Глухое, издалека. Гдето угрюмой и грозной тучей перемещается стая шершней. Они надвигаются, слаженно и неумолимо, как римская «черепаха». Вот гул становится весомей и ниже. Сгущается, набирает силу. Расползается, подминает звуки и краски, как вышедшая из берегов река. Сейчас уровень поднимется, опрокинет дамбу…
Она еще что-то говорит, губы ее двигаются, но я не различаю слов. Я беспомощно ищу спасения, несчастный путник на крошечном островке посреди океана. Суша под моими ногами вотвот исчезнет. Я оглядываюсь, но не вижу ничего, кроме грозного могущества воды. Вода эта ворвется в мою голову и будет рвать ее изнутри, как разорвала бы легкие, будь я подлинно утопающим. Голоса больше нет. Она молчит и смотрит на меня. Я вижу только овал лица и темные углубления глаз. Или она исчерпала запас слов, или я так изменился. Даже подается вперед. И вот тут в мой крошечный островок ударяет молния… Мгновенная слепота, лиловый свет и боль. Меня мутит.
– Что?! Что с вами?!
Я валюсь, как подкошенный, потому что нет уже ни верха, ни низа. Только бешено вращающийся вихрь в голове и какие-то острые, режущие изнутри обломки. Они действуют как отточенные клинки, которые один за другими нанизали на огромное колесо. Жанет успевает сделать последний шаг и удерживает меня от падения, позволяет как бы сползти вниз, избежав удара затылком. Я цепляюсь за нее инстинктивно, как утопающий, и тяну за собой, она теряет равновесие, под мою голову успевает подставить сначала руки, а потом колени.
– Что?.. Что? – снова спрашивает она.
– Больно… Голова… Свет…
Она трогает мой лоб, виски, как будто таким образом надеется обнаружить причину. Затем находит под подбородком пульс. Некоторое время ее рука остается там, затем возвращается к моим глазам и накрывает их, будто повязкой.
– Мигрень, – говорит она, не спрашивая, а утверждая. – Лежите спокойно. Вам нельзя двигаться.
Глава 8
Ей прежде нетрудно было выкрасть, одним господским взглядом, его тайные думы. Они были просты, без иносказаний. Он позволял себе мечтать о возможном будущем. В те редкие минуты, когда она, застав его в парке, под резной тенью платана, или в кабинете, созерцающего небо в свинцовых облаках, влекущих свое отвисшее брюхо по крышам, видела, как мечтательно, по-детски, он задумчив; как отрешен от печальной действительности, от настоящего и блуждает где-то далеко, в будущем, за горизонтом времени. Эта нежная мечтательность не могла быть навеяна прошлым. Ибо его прошлое было заражено горем. Прошлое разъела болезнь. А больной не вспоминает о терзающем его недуге с мерцающей улыбкой ребенка. Больной мечтает о выздоровлении. Он мечтает о том, как покинет свое ложе страданий, как встанет на ноги, как сделает первый шаг, как тело его обретет былую легкость, как прояснится голова, как утихнет боль. Он мечтает, как жизнь вновь обратит к нему лик чувственной радости, как поразит его здоровым голодом и молодым аппетитом. Эти мечты освещают бредовые ночи больного, он заполняет ими часы тоскливого ожидания, вечера скорби и рассветы печали. Эти мечты, эти грезы ведут его, как проводники, по кругам хвори к выздоровлению. И пока страждущий мечтает, пока грезит, пока видит эти сладкие сны, он будет жить. Но стоит ему разучиться мечтать, разучиться верить, как хворь поглощает его, пожирает, как стигийская пучина, где удушливый мрак болот уготован ему, как возмездие за леность души.
Это я знаю. Я помню, как от малейшей попытки пошевелиться, приподнять веки молния безошибочно била в скулы, в висок и в самые подглазья. И я не шевелюсь, не пытаюсь говорить. Чувствую только ее руки и ее пальцы на моих веках. Они у нее мягкие и прохладные. Мадлен так же накрывала ладонями мои глаза, когда я уставал. Я подгружался в короткую, живую темноту и там смывал свою ноющую усталость. Мои утомленные глаза купались в ее невидимой ласке и будто возрождались. У Мадлен были узкие натруженные ладошки, исколотые худенькие пальцы. У Жанет самозванки руки как бархат, холеные и беззаботные. Но в них та же исцеляющая ласка. Мне даже на миг кажется, что это Мадлен, пришла, когда я ее позвал… Воспользовалась руками незнакомой женщины, которую сделала своим посланцем, и теперь через ее руки, пусть чужие и равнодушные, посылает свою любовь.

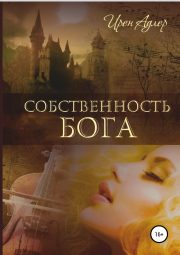
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.