– Я приказала тебе раздеться, – не оборачиваясь, произносит она. – Ты уже начал. Продолжай.
Я чувствую отчаяние. Но выбора нет, я довершаю начатое. Она все еще разглядывает рисунки, методично перекладывая их с одного на другой. И снова, не глядя в мою сторону, тускло и равнодушно:
– Ложись.
Я делаю шаг к двери в спальню. Это уже легче, это далеко, там никто не видит и не слышит.
– Нет. Здесь ложись. На ковер.
Что она задумала? При виде этих рисунков, этих раздражающих доказательств, у нее возник какой-то замысел. Настоять на своем. Причинить боль. Оскорбить. В ее распоряжении целый арсенал. А у меня выбора нет – подчиняюсь. Лежать даже легче, чем торчать нагой статуей посреди комнаты, не так стыдно. Герцогиня как будто наконец вспоминает обо мне. Делает шаг. Я вижу, как колышутся, надвигаясь, ее юбки, многослойные, тугие, гремящие крахмалом. Кончик ее башмака выскакивает, как змеиный язык. Он возникает у самого моего лица, но тут же прячется. Она смотрит на меня сверху вниз. Зауженный, упирающийся в потолок бархатный конус с белокурым закругленным наконечником. А я – выложенная на столе кроличья тушка, еще живая, с ободранной шкуркой. Остается из любопытства воткнуть вилку и посмотреть, что будет. Но она не шевелится, и рисунки все еще у нее в руках.
– Знаешь, – говорит она, – твоя дочь очень красивая девочка. Смышленая. Я видела ее как-то на днях. Можешь удивляться, если хочешь, но это так. Мне было любопытно взглянуть на нее, и я не смогла себе в этом отказать. Все-таки три года прошло. Когда мы встретились, она была совсем младенцем, а теперь вполне оформившийся бойкий звереныш. И на тебя очень похожа. Я вот что подумала. Время идет, она взрослеет, пора бы подумать о ее будущем. Не век же ей оставаться в доме бабки. Что ее там ждет? Скука, месса, брюзжание старой няньки. У такой красивой девочки, как она, должна быть интересная, яркая жизнь, сплошь состоящая из приключений. Она хоть и мала, но уже и сейчас представляет собой немалую ценность. За нее бы дорого заплатили, охотников много.
У меня тело сжимается, как пружина. Локти, колени подскакивают, сгибаются, жилы сокращаются, тянут, как канаты, судорожно сведенные мышцы, я готов вскочить. Но она очень больно и метко тычет заостренным кончиком своего башмака в мой бок, пониже ребер, там, где печень.
– Лежать, – приказывает она. И наступает мне на кисть руки, той самой, что я сделал попытку опереться.
– Я бы могла посодействовать в поиске достойного покупателя, – продолжает она как ни в чем не бывало. – С титулом, с должностью, в королевской милости, с куртуазным понятием, а то ведь обидно будет, если такая милая девчушка достанется какому-нибудь неотесанному болвану. Эти простолюдины так грубы… Загубят бедняжку.
Я закрываю глаза и стискиваю зубы. Горловой хрящ изнутри так дергается, что едва не прорывает кожу. У меня сухой язык и глотка шершавая, в насечках. А она продолжает говорить, все так же увлеченно и чуть насмешливо.
– Не каждый умеет обращаться с таким нежным цветочком, с бутоном, который еще не раскрыт и не обрел силу. Тут требуется сноровка. Тонкие ткани легко рвутся, кровоточат. Можно повредить и даже убить. Если движение будет слишком резким, разрыв произойдет глубоко…
– Нет, не надо, пожалуйста… – шепчу я едва слышно. Губы у меня сведены и уже, похоже, потрескались. Но она не слышит меня или не желает слышать.
– Но я позабочусь о том, чтобы ее первый опыт был не столь уж болезненным, и уж тем более не угрожал бы ее жизни. Нет смысла начинать, чтобы сразу же и закончить, сгинуть, едва ступив на предназначенную стезю. Богом дарованная красота – товар редкий, и цена его будет расти по мере приобретения навыков и мастерства, а умелый торговец всегда найдет выгодных покупателей. Но это потом. А пока главное ее преимущество – чистота. За детскую чистоту платят дорого. За изначальную, божественную девственность, за ту, что до грехопадения, в первые часы воплощенной вселенной, на седьмой день бытия. Платят за неведение и страх, за слезы и боль. За право быть первым. Стать преобразователем, разрушителем. Влезть на божественную кухню и подправить рецепт. Тебе это тоже нравилось… Помнишь, как лишал девственности свою жену? Сколько ей было? Шестнадцать? Опоздал. Кости уже раздались. Но тебе все равно понравилось. Ты был первым. Ты всех опередил, всех обыграл и первым упился ее страхом. Вы все этого хотите. Все до единого. Быть первым! Ну что ж, твоя дочь станет воплощением чьей-то мечты. Тут уж ничего не поделаешь, она девочка, и участь ее решена. У кого один владелец, у кого два, а кто-то еженощно идет с молотка. А ты бы что предпочел для своей дочери? Тишину замужества или многообразие борделя? Могу устроить и то, и другое.
У меня шум в ушах, но окончательно я не глохну. Я молю Бога послать мне эту небесную милость, благословенную глухоту, в которой я сгину, как в райском озере. Я буду видеть, как шевелятся и опадают подбородки, как языки вареным куском двигаются между зубов, но я ничего не услышу. В мою ушную раковину уже не вползет этот отвратительный, смысловой червь, именуемый словом, и не отравит меня своим значением. Я буду глух и спокоен.
Она замолкает и совершает какое-то движение. Я открываю глаза и вижу, как она подносит один из рисунков к ближайшей свече. Бумага вспыхивает. Черный ожог расползается от покоробившегося угла. Сам угол уже распадается на пепельные хлопья. Она держит горящий рисунок прямо надо мной, и черные останки сыплются мне на грудь, на живот. Когда у нее в руках остается маленький бумажный треугольник, она разжимает пальцы, и он, переворачиваясь, как мотылек с огненным крылом, летит вниз. В падении мотылек отклоняется от прямой и только чиркает меня по бедру. Ожога я не чувствую. Результат опыта ей кажется неудовлетворительным. Она поджигает второй рисунок. И снова начинает говорить.
– Я тут бессильна что-либо изменить, устройство мира таково, что судьба женщины, высокородной или простолюдинки, – быть купленной и проданной. Дочь в семье – не более чем товар, который родители с младенчества готовят к ярмарке, холят, лелеют, держат в стойле, как породистую кобылку, затем, когда в возраст войдет, выставляют на торги. Покупатели ходят, смотрят, пробуют шелковистость кожи, густоту волос. Но красоты одной мало. Должна быть еще выносливость. Ей много предстоит вынести. Хозяина на себе возить, тащить груз семейных забот и производить на свет жеребят. Ради чего, собственно, ее и берут в дом – плоть утешать и род продолжать.
Второй рисунок тоже догорает и летит вниз. На меня сыплется пепел. Но колебания воздуха вновь уводят догорающий обрывок прочь, и он падает где-то у моего локтя.
– Чем красивей и родовитей кобылка, тем состоятельней покупатель. Красивые, но без благородных кровей, так же находят себе богатых владельцев. Те, правда, не скрепляют купчую крепость церковным благословением, связь именуется грехом, но кобылки соглашаются и на это. Пока она резва и юна, ею пользуются для удовольствия, а затем сдают за бесценок барышнику, который подставляет эту кобылку каждому, кто желает прокатиться. Бывает, что красивую кобылку, по причине бедности и сиротства, сразу отдают в общее пользование, и тогда она попадает в общегородские конюшни, грязные и дешевые, которые в народе именуются борделем. И там некогда шелковистые, норовистые красотки быстро заканчивают свою карьеру, теряют волосы, зубы, покрываются язвами. Их отвозят на телегах в Отель-Дье, где они умирают. Их бросают в общие ямы и засыпают известью. Но бывает и по-другому. В эти общественные конюшни забредает коронованный всадник, и какая-то из ловких кобылок успевает подставить свой круп. Тогда она перебирается в королевские конюшни. Тут главное, не упустить свой шанс, момент королевской похоти. Невостребованные кобылки чахнут в безвестности, уходят в монастырь и там от отчаяния предлагают себя Сыну Божьему. Покупатель на них так и не нашелся. С тоской смотрят они сквозь монастырские решетки на счастливых товарок в разноцветной, сверкающей упряжи, влекущих герцогские и графские экипажи. «Ах как же мы несчастны, – вздыхают кобылки. – Не узнать нам тяжести всадника, не изведать сладости хлыста, не вкусить остроты шенкеля, не разбить о камни ног, не стереть спину о седло. Наша жизнь скучна и безрадостна».
Догорает следующий рисунок. Обрывок летит вниз. На этот раз он падает мне на грудь, и я чувствую жар. Но пошевелиться я не в силах. Она воспроизводит казнь снова и снова. Костер, предсмертные муки, черный пепел и догорающий остов.
– Горчайшее из разочарований – избегнуть своей участи. Если уж сам Господь установил этот справедливейший миропорядок, примерно наказав Еву и ее дочерей, то как посмеем мы противиться Его воле? Наша кобылка не останется забытой. Мы найдем ей достойного владельца. Он ее объездит и приучит к седлу. Косточки у нее еще хрупкие, детские, но со временем она окрепнет, обретет породистые стати. Да и как может быть иначе, если она наследует их от такого отца. Длинные ноги, крепкие бедра. Черная шелковистая грива. Какая порода!
Она бросает последний обрывок и долго смотрит на меня, засыпанного пеплом.
– Как бы мне и в самом деле не обратиться в конезаводчика! Так я увлеклась, – вздыхает герцогиня.
Она трогает мою щеку кончиком башмака, и моя голова мотается, как у мертвого. Затем перешагивает, брезгливо подобрав юбки, и уходит.
Глава 7
Она вновь жаждала крови. Соблазн покончить с этой мукой был нестерпим. Пожалуй, это желание, что подступило, не сравнить по силе с предшествующим. Она устала! С нее хватит! И пусть та ведьма, смерть, в венке из померанца приходит и шепчет. Она не боится. Больше не боится. Она переживет, перетерпит этот ужас, а за ним – сожаление и раскаяние. Она будет кусать пальцы и рвать на себе волосы, она будет проклинать и молить о прощении, но это пройдет. Все проходит, и все умирает. Ее страдания кончатся, и наступит покой. Сладостный и дремотный. Покой чувственного оцепенения, той прижизненной смерти, когда кровь почти остыла, а сердце едва бьется. Так она жила прежде, посеребренная изморозью, без страданий. У нее был только разум, чистый, отлаженный, отточенный, как клинок, и весь мир лежал перед ней, как шахматная доска, где она уверенно расставляла фигуры. Мир был предсказуем. Да, там не было иных цветов, не было изогнутых линий, мир был однообразен и скучен, но он был управляем. Она могла делать с этим миром все что угодно, как опытный гроссмейстер. Почему же она так легкомысленно разрушила этот мир? Зачем разбила вдребезги свой ледяной чертог? Все из-за безумного соблазна узнать многоцветное радужное свечение, именуемое страстью.

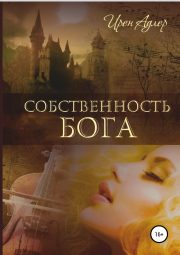
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.