Глава 6
Видит Бог, она не хотела. Как нелепо все вышло, как отвратительно. Почему так происходит? Почему все светлое, живое, чудотворное всегда обращается в свою противоположность? День – в ночь, красота – в прах, вино – в уксус, и льется этот уксус на свежие раны. На ней будто проклятье, повелевающее ей обращаться в чудовище. Будто в проклятый час полнолуния в ней пробуждается иная суть, демоническая, когтистая. Ее кожа лопается, шерсть лезет влажными пучками, черты лица искажаются, нежный подбородок и точеные скулы тянутся в волчью пасть, пальцы, белые, с розовыми ноготками, темнеют, покрываются чешуйками. И глаза уже не ясные, с молочным белком, а налитые кровью, с янтарной пылающей сердцевиной. Она все чувствует, понимает, но не в силах это прекратить. Магия зла сильнее.
Я снова слышу этот звук, снова едва слышный отрывистый щелчок. В моей в жизни было столько бессонных ночей, когда я лежал в тишине и прислушивался, цепенея от малейшего дуновения, скрипа и шороха, что не могу ошибиться. Я выхватываю этот звук из целого хора подступающих шепотков ветра и пылающего камина. Кто-то осторожно, медленно отводит наружный рычаг двери вниз. На этот раз ошибки быть не может.
Герцогиня уже открывает дверь в кабинет и входит. Я не могу встретить ее тем же торжественным раболепием, которое так тщательно готовил, вид у меня слегка встрепанный. Я не балую ее приветствием с волнительной дрожью, а тут выхожу навстречу в таком замешательстве!
– Что с тобой? Ты взволнован? Румянец на щеках, губы дрожат.
– Я не думал… полагал, что ваше высочество будет слишком занята…
Она усмехается. Проводит рукой по моему бедру.
– Ну конечно, в замке полно гостей, у хозяйки будет полно забот. Бог даст, ей будет не до меня. По крайней мере, сегодня, а если повезет, то и завтра. Так думал?
Я не отвечаю. Спорить нет смысла, она безошибочно угадывает мои мысли. Что ж тут удивительного? За три года ничего не изменилось. Все то же вечное противостояние раба и господина.
– Не отворачивайся, – продолжает она. – Я знаю, что ты меня ненавидишь. Ты удивительно постоянен в своих чувствах. Все еще не можешь простить… Помнишь, лелеешь обиду. А ведь мог бы все изменить. Но – нет! Да ты Бога молил, чтобы я до утра к тебе не являлась. Вот была бы радость. Ждешь моего отъезда как манны небесной, а возвращения – будто казни египетской. Вот она я, назойливая, ненавистная любовница.
– Я вовсе… я думал о другом.
Она предостерегает меня жестом.
– Полно. Я знаю, о чем ты думал. Ты в своем праве, а я вполне заслуживаю того, чтобы ты мечтал о моей смерти. У тебя есть веские причины. Нет, нет, о таком ты, разумеется, и не помышлял. Как можно? Это же грех! Таким пожеланием ты погубишь свою душу. Я должна всего лишь исчезнуть. Уехать и не вернуться. Быть похищенной или сосланной. Или пасть от кинжала убийцы. Скажи, а ты решился бы подослать ко мне убийц? Боже, боже, что же я такое говорю… Как смею… Мой нежный, богобоязненный, стыдливый мальчик, невинный агнец, он и в мыслях подобного не допустит.
Она откидывается в кресле и томно опускает веки.
– А знаешь, в чем секрет? В чем великая мистериальная тайна? – она делает паузу и впивается в меня взглядом. – В том, что мне безразлично, что ты там себе думаешь! Можешь мечтать о чем угодно и даже воображать меня мертвой. Мне все равно. Во всяком случае, не мешает.
Она опять понижает голос до шепота.
– Скорее даже наоборот, волнует. Мне нравится, когда ты такой упрямый и смелый. Меня влечет твоя ненависть, как если бы это была самая сильная любовь, возбуждает твоя неприязнь, манит отчаяние. Ты такой желанный в своей неразрешимой печали. Тех, которые смотрят с обожанием и восторгом, много. Их десятки, даже сотни. Они повсюду, они просты и предсказуемы, падки на красоту, честолюбивы, легко управляемы и порочны. А такой как ты один. Природа изготовила тебя по единственным, волшебным лекалам, которые тут же и разбила. Поэтому таких как ты больше нет. Ты – единственное отступление от правил, украшение самой жизни, и в том твоя особая привлекательность. Поэтому тебе можно все. Я все тебе прощаю. Даже ненависть.
Судя по этим разглагольствованиям, она пьяна. Не настолько, чтобы расползтись до сладких откровений и назойливых нежностей, как это у нее пару раз случалось, но вполне достаточно, чтобы повредить маску высокомерного отчуждения и дать волю тревожным мыслям. В такие минуты она видит себя отвергнутой, нелюбимой, начинает искать себе оправданий, что-то объяснять, но доводы не облегчают ее страданий. Тогда она начинает говорить. Я знаю, что именно ее мучит, и с течением времени все больше. Она никогда себе в этом не признается, ибо это слишком унизительно, но выдает болезнь своей говорливостью. Это голод. Она, как и все, испытывает голод, тот самый, нежелудочный, но как утолить этот голод, она не знает. Ее никто не учил. Она не знает, что единственным средством, единственным бальзамом, каким излечивают недуг, может быть любовь. Ее уста кривит судорога, если она произносит это слово. Любовь! Чья любовь? Моя? Безродного? Бесправного? Помилуй Бог! В ответ она только рассмеется. Она никогда в этом не признается. Но от страданий это не спасает, боль остается. И стоит лишь винным парам, болезни или дурному настроению размыть гипсовую маску, как она сразу же начинает страдать. Мое отчуждение становится невыносимым укором, моя холодность обращается в лезвие. Я, как безжалостное зеркало, рисую ей припудренные шрамы.
Но герцогиню раздражает что-то еще. По ту сторону тайного хода случилось нечто, что лишает ее привычного высокомерного спокойствия. Что это? Неудавшийся заговор? Тайная интрига? Мне это неведомо. Но она в глухой и мрачной ярости. Цвет ее лица изменился. Возможно, она явилась ко мне за своеобразным спасением. Я должен ее утешить. Она слишком долго пребывала среди мертвецов. Ей нужна моя сила. Она устала, и она голодна. Ей нужна пища. Как израненная волчица, она ползет в логово на брюхе. Ей нужно отлежаться и глотнуть свежей крови. А добыча – это я. Ей нужна моя кровь. Я отдал бы ее добровольно, без принуждения, если бы она только попросила; если бы вместо жесткого, указующего перста моей щеки коснулась бы ладонь, а до слуха бы донесся голос вопрошающей души, я с радостью поделился бы с ней всем тем, что сохранил долготерпением и молитвой. Я отдал бы ей часть себя, как отдал бы кусок хлеба голодающему ребенку. Ей стоило только попросить, признать свою слабость. Но она не просит. Она грабит. Как разбойник с большой дороги.
– Ну что же ты? Раздевайся. У меня, к сожалению, не так много времени, чтобы в полной мере насладиться твоим упрямством.
Меня бросает в холодный пот. Я вдруг вспоминаю, что все происходящее здесь подобно сценической пантомиме, у которой нашелся случайный зритель, и мой позор с ее жаждой более не сокрыты этими стенами. Герцогиня ничего не знает и не страдает от тяжести присутствия, но я-то знаю. Для меня один-единственный свидетель обращается в многотысячную толпу, я уже выставлен на помост, под безжалостные взгляды. Они изучают и смакуют, они поглощают каждый мой жест. Они наслаждаются моим стыдом. Нет, я не наготы стыжусь, не откровенности действий. Я стыжусь уродства собственного бытия, того искажения, что в нем присутствует. Это как при внешнем благополучии обнаружить шестой палец или хорошо замаскированный горб. Я развязываю шнурки на своем камзоле, но не чувствую рук. Я слышу свист ветра и ликующий шепот. Рассудком я понимаю, что никакой толпы нет, и ветра нет, нет разверстых просторов, и нет скользящих взглядов. Я не могу даже поручиться за любопытство, что движет непрошеной гостьей, но я ничего не могу с собой поделать. Стащив сорочку, я падаю на колени.
– Я не могу…
Опустив голову как можно ниже, прячу лицо. Я боюсь увидеть. У нее сейчас гнев начнет разливаться сине-багровым пятном от самых глаз.
– Я не могу… пожалуйста, не сегодня…
Что она сделает? Ударит меня? Пнет? Я слышу, как она поднимается с того кресла, в котором я сидел сам, и приближается.
За подбородок вздергивает мое лицо.
– Кто же это над тобой так хорошо потрудился? – насмешливо спрашивает она. – Уж не Жюльмет ли? Господи, Геро, ты теряешь в моих глазах. Как ты мог? Польститься на такое убожество! А, понимаю, ты сделал это из жалости.
Я отрицательно качаю головой, насколько ее рука на моем подбородке позволяет мне это сделать.
– Если не она, то кто? Кто-то же побывал здесь до меня!
Я опять трясу головой.
Она выпячивает губу и оглядывается.
– А, знаю. Знаю, кто над тобой так славно потрудился, и даже знаю, где ее искать.
У меня темнеет в глазах. Господи, что же я наделал. Не смог преодолеть свою застенчивость. Для такого как я застенчивость – непозволительная роскошь. Поглядите-ка на эту застенчивую вещь, на этого жеребца с идеальной выездкой. Я судорожно вдыхаю и уже открываю рот, чтобы вознести мольбу о прощении и возвестить о внезапно вспыхнувшей страсти (где взять эту страсть?), но она идет вовсе не к двери в гостиную. Она идет к моему письменному столу. На нем все еще лежат рисунки Марии. Я, само собой, позабыл о них.
Это давно уже стало законом – прятать от глаз герцогини все, что уличает присутствие в моей жизни дочери. Хозяйка знает, что девочка бывает здесь, знает, что я провожу с ней несколько часов, учу ее рисовать, выводить буквы, однако не желает получать видимых доказательств. Для нее девочка как бы не существует. Так ревнивая любовница окружает настороженным молчанием имя жены. Соперница обращена в миф, но любое упоминание о ней молниеносно облекает этот миф в кожу. Я по мере сил делаю все возможное, дабы избежать подобных воплощений, уничтожаю следы, прячу, обманываю, притворяюсь, но сегодня я пойман с поличным. Мне так не хотелось с ней расставаться! Я перебирал эти рисунки, как драгоценности в сокровищнице, выгадывал мгновения и минуты, а должен был сжечь их собственными руками. А тут еще Жанет! По ее вине я забыл это сделать. Герцогиня уже держит их, и лицо у нее каменное. Я вижу ее профиль, безупречный, тонкий, скальной породы. Она перебирает рисунки, и на каждом задерживает свой взгляд.

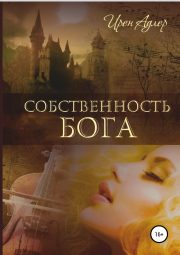
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.