Я не смел рассказать о своих догадках никому, кроме отца Мартина. Он слушал меня, грустно улыбаясь, но не возражал, не спорил, и по его молчанию я понимал, что он прошел тот же путь. Он задавал те же вопросы и нашел те же ответы. Оказался в том же тупике недоумения. Все знают ответ, все твердят одни и те же заповеди, цитируют наизусть Евангелия, молятся, возжигают свечи и ничего не слышат. Знание остается на поверхности ума, как масляное пятно на поверхности озера, не касаясь души, не пробуждая дух, и очень часто оказывает прямо противоположное действие: вместо целительной радости – злобное, животное раздражение. Поэтому знающие истину либо молчат, либо прячут ее за тысячью иносказаний, разделяя солнечный шар на тысячи свечей. Они вынуждены нести эту истину крадучись. Ибо не каждому даны силы взойти на крест во имя любви. Не каждый найдет в себе силы противостоять вражде. Все мы слабы.
Вероятно, по этой причине я решил изучать медицину. Не мог указать путь к счастью, но учился изгонять боль. Избавить от толики страданий – та же крупица истины, та же тень божественной благодати. Я учился изгонять лихорадку и врачевать раны, облегчать муки роженицы и сращивать переломы. Я мечтал о том времени, когда мое прикосновение будет дарить надежду. В этом море страданий, что представляет собой мир смертных, я желал себе участи суденышка, что вынесет потерпевших крушение к далекому берегу. Жажда знаний будила меня среди ночи и гнала вперед. Я не знал, не чувствовал усталости, обходился без сна, только ноги внезапно становились ватными, а перо падало из рук, если на четвертые сутки я пытался пренебречь собственной природой. Мне казалось, что так будет всегда, что пресыщение знанием никогда не наступит.
И вдруг это случилось. Я больше не желал ничего знать. Более того, я испытывал отвращение к книгам. Они меня предали. Ибо все, что в них написано, – ложь. Они учили мудрости и долготерпению, а на деле все их уроки оказались обманом: и найденный мною ответ, и путь, избранный как единственно возможный. Все оказалось пустым.
Однако герцогиня упорно продолжала дарить мне книги. Количество их все увеличивалось, матово светились тисненые переплеты. Последним было прижизненное издание Монтеня 1580 года. Я вспомнил, как после рождения Марии читал «О воспитании детей». Позволь ребенку развивать свои склонности, предлагая самому изведать вкус разных вещей. Я тогда твердо решил следовать его советам и даже попытался объяснить это Мадлен. Ничего не понимая, она только жалобно улыбалась. Рассуждения философа из Бордо были ей так же чужды, как расчеты по баллистике Никколо Тартальи30. В ее глазах главная добродетель ребенка – послушание, а долг родителей – строгость. Родитель – это суровый пастырь, призванный усмирить и наставить на путь истины непокорное чадо. А позволить отпрыску проявлять склонности, уклоняясь от обязанностей, есть нарушение заповедей. Я оставил попытки объяснить ей что-либо сразу, решил – Мария будет подрастать, мне для начала предстоит наблюдать, а затем предлагать ей различные игрушки, которые станут указующими знаками. Возможно, ей понравится счет, или она обнаружит склонность к наукам естественным, будет рифмовать слова или выводить точные линии. Мария, конечно, девочка, вряд ли ее будущее предполагает ученую степень, но кто сказал, что разум женщины должен оставаться во мраке? Она вправе воспользоваться его дарами и употреблять их себе на пользу.
Этот внезапно объявившийся на полке Монтень потревожил меня. Я содрогнулся от боли, как если бы задел незажившую рану, и помимо своей воли вернулся в прошлое. Моя дочь жива, я по-прежнему ее отец, и мой долг заботиться о ней. Я увижу ее. Пусть у нас будет немного времени, пусть свидания будут редкими, я смогу употребить их с пользой. Кто еще позаботится о моей девочке? Кто разбудит ее разум? Вот он, мой первый ослепительный факел. Я уже вижу красноватый полукруг за поворотом. Я так долго шел в темноте, обдирая руку о шершавые стены, что на них ни клочка кожи не осталось. Теперь я пойду свободно. И раны больше саднить не будут.
На глазах у изумленного Любена, который уже привык лицезреть меня где-нибудь в углу, пребывающим в праздности, я срываюсь с места и бегу в кабинет, к книжным полкам. Для начала я перечитаю Монтеня.
Глава 10
– Что за книга? – поинтересовалась герцогиня, уловив благоприятное действие перемен.
Лакей почесал в затылке огромной ручищей.
– Ты что же, болван, не посмотрел?
– Посмотрел, – угрюмо протянул тот. – Мон… Ман… Манмень…
– Монтень, глупец, – презрительно поправила герцогиня.
Соглядатай едва умел читать. Это занятие для людей с такими руками и обрубками вместо пальцев представляется бесполезным и бессмысленным.
– Что еще он делал? – с трудом скрывая неудовольствие, осведомилась Клотильда.
Ей не нравилось то, чем она сейчас занималась, не нравилось с самого начала. Было в этих расспросах что-то нечистое, нечистоплотное и даже унизительное, сходное с подглядыванием в замочную скважину. Какая, собственно, разница, какую книгу он читал? Первоначально в обязанности этого тюремщика входило доносить ей о попытках побега или самоувечья. Все прочие занятия красивого узника не имели значения. Она так думала, но с течением времени стала задавать стражу все больше вопросов. Она объясняла это предосторожностью, ибо лакей был слишком глуп, чтобы вовремя распознать задуманный акт. А Геро слишком умен, чтобы действовать грубо и прямолинейно. Он будет готовиться скрытно и сплетет себе петлю из таких нитей и волокон, о которых этот тупица даже не догадается. Подготовку побега, если Геро его все-таки задумает, а он рано или поздно задумает, он начнет с таких далеких подступов, так аккуратно будет подбираться к цели, что предотвратить этот побег без ущерба будет непросто. Или с таким же искусством и выдержкой он подготовит собственное самоубийство. Что тоже в своем роде побег.
Так объясняла своей излишний интерес герцогиня, чтобы успокоить не то самолюбие, не то неизжитую деликатность, но в действительности, когда она набиралась мужества сама себе в том признаться, это была жажда соучастия. Она хотела присутствовать как равная в его жизни, стать ее частью, пусть даже в таком неприглядном виде. Если он не пускал ее в свою жизнь добровольно, если не открывал своих тайн, то она проникнет туда по собственному почину, как взломщик, подобрав отмычки.
– Так что он делал потом? Или он все это время читал? Соглядатай, герцогиня всегда забывала, как его зовут, порылся в карманах и вытащил измятый, сложенный вчетверо листок.
– Вот, он потом написал.
Весь следующий день я провожу за составлением плана. Известно, что каждое, даже малозначительное дело, следует начинать с рекогносцировки. Не имея представления, с чего начать, я рисую портрет моей девочки. Большим художественным талантом я не обладаю, но определенная склонность есть. Отец Мартин не раз выговаривал мне за разрисованные поля книг и латинских прописей. Изнывая от скуки над спряжением латинских глаголов, я развлекал себя тем, что рисовал шаржи на своего учителя и на товарищей по несчастью, сопящих и корпящих над учебниками. Сходство было несомненным. Узнавшие себя грозились меня самого превратить в шарж, однако с удовольствием смеялись над шаржами других.
Портрет Марии мне удается быстро. Я рисую пером, ибо не позаботился ни о каких других художественных принадлежностях. И вот на листе, под герцогским гербом, – ее круглое чуть удивленное личико. Я долго смотрю на нее, потом бросаю лист на стол и ухожу к окну. Нет, это слишком больно, я не смогу. Все равно что тайком пробраться на кладбище и вскрыть свежую могилу. Моя девочка жива, слава Создателю, но все нити, все пути ведут меня в прошлое. Я начинаю вспоминать. А за воспоминаниями вновь подкатывает тоска, отчаяние, глухая неизлечимая ненависть. Вина, бессилие… Я стискиваю кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Сейчас самое время попросить у Любена вина. И пить из горлышка до дна. А потом уснуть.
Нет, черт возьми! Пьяный отец – отвратительное зрелище. Пусть даже сердце разорвется. Я справлюсь. Закрыв глаза, читаю молитву. Отец Мартин говорил, что если научиться правильно молиться, заполняя молитвой разум, изгоняя мысли, то такой молитвой можно излечивать любые раны. Но я этому так и не научился. Был слишком порывист и непоседлив. Хотя временами, сосредоточившись и погрузившись в молитву, испытывал нечто божественно-необъяснимое, будто обращался в молитву сам. Но случалось это крайне редко. А сейчас мне это вовсе недоступно. Довольствуюсь троекратной молитвой святого Франциска. «Господи, сделай меня орудием твоего мира. Там, где ненависть, дай мне силу сеять любовь». Мне становится легче, и я могу вернуться к столу. Монтеня я перечел два раза. Все правильно. Позволь ребенку развить его собственный разум, а не принуждай его поглощать готовые максимы. Его знания должны проистекать из собственных проб и ошибок. А наставник лишь предлагает, но не навязывает пути. Но моя дочь еще слишком мала, чтобы постичь азы философии. Ей бы научиться твердо стоять на ногах. Я вновь беру лист с ее портретом и делю его на две половины. На одной стороне пишу «Тело», на другой «Дух». Под заголовком «Тело» я пишу названия детских игр, которые помогут моей девочке стать ловкой и сильной. Ей надо научиться быстро бегать, перепрыгивать через ступени и держать равновесие. Одной этой узкой лестницы в том темном доме достаточно, чтобы ее покалечить. Крутые занозистые ступени. Ее пугает темнота. Ну что ж, тогда мы поиграем с ней в прятки. Темнота станет ее сообщником, ее помощником в играх и перестанет пугать. Ей страшно заблудиться, и мы построим с ней лабиринт, по которому она доберется до сокровища. А из стола и табурета возведем башню, чтобы она не боялась высоты. А для маленьких пальчиков я соберу несколько круглых предметов. Мы устроим с ней тайник. Это и будет сокровище, до которого ей придется добраться. Попрошу повара, чтобы он приготовил драже разной величины и формы. Новый приступ тоски вынуждает меня бросить перо. Да что же я делаю, в самом деле? Воображаю себя настоящим отцом. Я заключенный, которому позволят двухчасовое свидание. Да и позволят ли? Я поманю ее своим участием, своей игрой, а что потом? Я исчезну. И вновь появлюсь через несколько недель, когда она уже все забудет. Снова нанесу рану и вновь исчезну. И так до бесконечности. А она будет ждать этих коротких свиданий, будет верить. Будет просить меня остаться, будет умолять не покидать. А я буду отводить глаза и спасаться бегством. Ее отец, сильный и добрый, почти Господь Бог, окажется бессильным трусом. Анастази права. Для чего я прошу этих свиданий? Кому от этого лучше? Я разобью ей сердце. Девочке лучше забыть меня, а мне – смириться со своей участью.

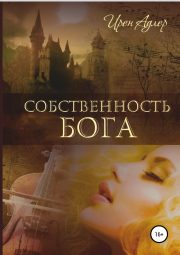
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.