Со стороны мне трудно судить, но Мадлен утверждала, что Мария удивительно на меня похожа, а с возрастом обратится едва ли не в мою копию. Я же настаивал, что в дочери главенствует мать, и методично указывал Мадлен на собранные улики. Мягкий носик, округлый подбородок, и даже нижняя губа, которую девочка уже научилась забавно пучить, если решала сердиться. А вот лоб, я согласен, мой. И даже первая волна темных кудрей над ним, непроходимым частоколом, тоже от меня. И еще тихое, исподволь, упрямство. Мадлен сдавалась быстро, ее легко было напугать, но Мария обладала странной, недетской твердостью. Нежный персик с косточкой внутри. Получив от матери чувствительный шлепок, Мария не захлебывалась плачем, а кривила ротик и угрюмо сопела. Она отступала, пряталась, но через четверть часа повторяла демарш. Она не тратила силы на плач, она их копила где-то внутри. В маленьком существе происходила тайная деятельность. Она признавала наши правила и запреты, как исходящие от существ более могущественных, более сильных, но свое собственное могущество она пестовала глубоко внутри. Я замечаю, что и сейчас ее кулачки сжаты. Даже во сне. Бедная моя девочка, без любви и помощи ее душа очерствеет. Она научится лгать, чтобы выжить, научится быть жестокой и непримиримой, чтобы сохранить свою изначальную целостность. Ее сердце обратится в камень. Она подрастет, возненавидит и будет мстить. Сама память о нас, ее родителях, предавших ее, покинувших ее, станет ей ненавистна. Она будет мстить нам забвением. И бабке будет мстить. Когда-нибудь та состарится, одряхлеет и окажется в ее власти. И миру, обделившему ее счастьем, она тоже отплатит. Она никого не простит.
Я не прикасаюсь к ней, но мысленно несу ее на руках, как нес ее тогда, дремлющую, в парке. И она дышит ровно, и лобик не морщит, и пальчики – как розовые лепестки. Видимо, я делаю какое-то неосознанное движение, подаюсь вперед, так как мадам Аджани глухо шипит у меня за спиной:
– Хватит. Насмотрелся. Пора и честь знать.
Я все же наклоняюсь и касаюсь волос девочки. Той рукой, на которой поперек ладони повязка. Будто это прикосновение сразу же исцелит рану. Волосы у нее чуть влажные. В комнате душно, и малышка вспотела.
– Ей жарко, – говорю я.
– Не твоя забота, – отвечает бабка. – Ступай вниз.
Я повинуюсь. Иду и придерживаю руку ладонью вверх, будто там притаилось теплое, маленькое и живое. Я украдкой зачерпнул из сокровищницы горсть монет. Я не отступлю. Я не позволю им искалечить душу моей девочки. Это упорство у Марии от меня. Я буду защищать ее, буду биться за нее, пока жив.
С мадам Аджани мы расстаемся, не прощаясь. Она сразу захлопывает за мной дверь. Анастази ждет в карете. Любен взбирается на козлы рядом с кучером. Уже совсем темно. Желтыми пятнами проступают редкие фонари. В окнах масляные светильники и свечи. Чадят, играют тенями. Улицы опустели. У лавки напротив ожидает своего владельца или владелицу портшез. На соседней улице бряцанье железа и конский топот. Анастази торопит меня. Я забиваюсь в угол и отворачиваюсь. Лошади натягивают постромки. Карета сворачивает на Медвежью улицу и ускоряет ход. Анастази долго молчит, смотрит в свое окно, но, проводив взглядом Бастилию, поворачивается ко мне:
– И чего ты добился? Сейчас ты еще бледнее, чем был утром. Лицо как у приговоренного к смерти. Раны разбередил. Зачем? Ты же знаешь, что она жива. Знаешь, что о ней заботятся. Так зачем тебе понадобилось смотреть на нее? Да еще в этом доме. Мало тебе страданий? Вот этого всего мало? – она тычет пальцем в мою перевязанную руку. – Так нет же, расковырял сердце ржавым гвоздем. Знаешь, на что это похоже? На повторные похороны. Мертвеца извлекли на свет, чтобы заново оплакать и похоронить. Ничего уже не изменишь, ничего не вернешь. Герцогиня не позволит тебя видеться с дочерью, не позволит даже думать о ней. Пора тебе с этим смириться и дать сердцу покой. Позволь ему истечь кровью и успокоиться. Пусть рана обратиться в рубец, тебе не будет так больно. Пусть даже сердце очерствеет. Чувства – это непозволительная роскошь. Любовь, нежность, привязанность – все это путы, которые только отягощают. Кандалы на наших руках. Они стирают плоть до кости и обращают нас в рабов. Это постромки и вожжи. А те, которых мы любим, – это заложники. Мы страдаем ради них, и они страдают по нашей вине. Наши чувства нас истощают, мы не выздоравливаем, а только бесконечно залечиваем раны. Мы вечно раненые и больные. Любовь – это отравленная стрела в бессмертной плоти.
Она замолкает, потом быстро пересаживается ко мне.
– Не цепляйся за эту девочку. Ты не сможешь быть с ней, не сможешь быть ей отцом. Только себя измучаешь. И ее. Сейчас она еще мала и быстро забудет свою утрату. А когда подрастет? Когда начнет узнавать тебя? Как ты объяснишь ей свои отлучки? Она будет ждать, будет надеяться, будет верить, а ты придешь к ней на полчаса и вновь исчезнешь. Сам будешь десятки раз умирать и ее сделаешь вечной плакальщицей. Будешь лгать, выдумывать, изворачиваться. А она будет спрашивать, почему нежно любимый папочка не заберет нежно любимую дочку из дома этой фурии. Что ты ей ответишь? Как солжешь? Что отправился на войну? Или в далекие страны на поиски счастья? А может быть, поведаешь о знатной, богатой даме, которая держит тебя взаперти, как животное? А что будет чувствовать девочка, каждый раз расставаясь с тобой? Если не думаешь о себе, то подумай, по крайней мере, о ней. За что ей такая мука?
Я поворачиваюсь к Анастази:
– Тогда что же мне делать?
– Не видеться с ней. Думай о ней сколько угодно, вспоминай, молись, но не встречайся. Твое сердце не выдержит, если ты будешь подвергать его таким пыткам. Ты погубишь себя. В этом земном аду побеждает лишь тот, чье сердце становится неуязвимым. Нами движет суровая необходимость, голод и боль. А чувства – это редкая и дорогостоящая приправа.
– Для чего же тогда жить? – чуть слышно спрашиваю я. – Не любить, не верить, не страдать. Для чего?
Глава 8
Клотильда скучала. Она слушала трескотню пожаловавших к ней дам, этого сборища тамбуринов, бубнов и кастаньет, ущербных, завистливых, подвядших богинь, и думала, каким же средством воспользуется Геро, чтобы осуществить эту цель, эту изначальную первородную, неутолимую, как голод, потребность – чувствовать себя богом. Он рожден на земле, в той же юдоли слез, в жалкой неизбежной конечности всего сущего, и он должен этого желать. Но как? Если он отвергает привычные, заезженные легкие пути, то вынужден обрести другой. Какой? Да и есть ли он, этот путь? Она вспомнила его глаза, то печальные, то полные света, вспомнила, как он смотрел на свою беременную жену, как держал на руках ребенка, как следил за полетом птиц, как касался деревьев, будто приветствуя, как ласкал подбежавшую собаку, как улыбался нищему в трапезной, и странная пугающая мысль вдруг поразила ее. Мысль еретическая, разрушительная. Ему и не нужно искать особых путей или средств, чтобы прийти к желанной цели и соперничать с богом. Ему не нужно идти по пути разрушения и греха. Он уже достиг того, чего желал. Он – бог. А если не ходит по воде, то это не потому, что не умеет, а потому, что не пробовал.
В замке почти все окна освещены. У парадного входа три экипажа. Суета незнакомых лакеев, перебранка конюших. Ее высочество принимает гостей. Анастази мрачно косится на гербы.
– Де Шеврез с принцессой Конти. И Бассомпьер с ними. Две главные заговорщицы и шлюхи французского двора. Лучше тебе их не видеть. Вернее, лучше им не видеть тебя. Слышал про мамашу Бурже, у которой самый дорогой бордель в Париже? Так вот эта старая шлюха – нежная роза по сравнению с этими двумя высокородными дамами. Эй! – кричит она, высунувшись из окна. – Поворачивай в парк!
Я возвращаюсь к себе по черной лестнице. Мария спала у меня на руках, когда я последний раз поднимался по ней. Сейчас я один, осталась лишь тяжесть утраты. Я вновь оставил ее, отдал в чужие руки. Любен суетится, стягивает с меня башмаки. Он делает это каждый день, и я почти смирился, хотя время от времени все же испытываю неловкость. У меня есть слуга! У меня, безродного… Это разновидность оплаты. Любен осведомляется, что мне подать на ужин. Но я не голоден. Анастази права. Легче мне не стало. Скорее наоборот. Пустота в жилах. Будто я снова совершил кровопускание. Только на этот раз кровью замазан не коридор, а путь от ворот Сент-Антуан до Санлиса. И я изнутри подсушен до шелеста. Вздохнув, прошу у Любена вина. Оно красное и послужит заменой крови. Но он требует, чтобы прежде я съел кусочек грудинки. Только тогда он позволит мне сделать глоток. Делать нечего, я соглашаюсь.
Приглушенные звуки скрипки. Вероятно, дамы пожаловали не просто с официальным визитом. У них было оговорено торжество. И слава Богу! Меня не позовут к ужину и до утра оставят в покое.
Когда я раздеваюсь, чтобы смыть перед сном дорожную пыль, Любен видит мои повязки и вновь укоризненно качает головой. Мне стыдно, и я готов уверить его, что подобное больше не повторится.
Уснуть мне трудно. Слишком много потрясений. Возвращение в отвергнувший меня город, комната Мадлен, спящая дочь и разговор с Анастази – все это одновременно кипит и булькает в растревоженной памяти. Единой картины не складывается, бурное, терзающее нагромождение, где каждый из образов лезет вперед, чтобы первому завладеть моим вниманием. Но стоит победителю это сделать, как его тут же оттесняет другой осколок, отбрасывает гулким ударом в висок и сам заполняет пространство. Скрипучий голос мадам Аджани, заплаканные глаза Наннет, кособокая глиняная плошка, темный локон на подушке… Вихрь, маскарад. Я бы спрятал голову под одеяло, но это не поможет. Я очень устал, веки слипаются, но между бровей все еще вращается огненное колесо, от него во все стороны летят искры и тлеют, жгут. В теле странная тревога, беспокойство. Я никак не могу согреться, хотя ночь теплая, да и Любен всегда бросает в камин охапку виноградных лоз. Они быстро прогорают, но тепло их скоротечной жизни сохраняется до утра. Это не тот холод, который изгоняется огнем. Это холод блуждающей в пустыне души. Она бесплотна, и простым огнем ее не согреть. Я стараюсь дышать ровнее, сплетаю мысли с помощью молитвы. «Pater noster, qui es in caelis; sanctificetur nomen tuum…»28 Будто сшиваю их в единое гладкое, без узелков, полотно. Они уже не пихаются локтями, а соблюдают очередность. Спокойное сонное личико Марии… Она сейчас спит. В той же комнате на тюфяке дремлет Наннет. Моя девочка не одна. Эта мысль окончательно меня умиротворяет. И я тоже засыпаю. Скрипок уже не слышно. Тишина.

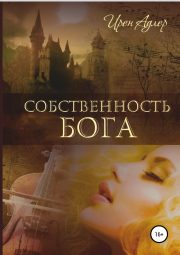
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.