– Ай, браво! Сама… ножками… по ступенькам. Ай, браво!
И она слышит. Вздрагивает, вертит головенкой. Отпускает руку Анастази, уже готова пуститься в плавание, как безрассудно храбрый морячок. Она широко раскрывает глаза – ищет. Ищет! Изучает меня. Но я так непохож, так пугающе ярок. Она слышит только голос: «Ай, браво!» Голос не изменился. Его нельзя подделать. Она его помнит. Ее взгляд больше не блуждает. Он останавливается на мне. Незнакомом. Она еще колеблется. За эти долгие недели она столько раз обманывалась в своих надеждах. Вдруг и сейчас обман? Но я произношу ее имя… Произношу с затяжной нежностью, как произносил его раньше, в той, другой, жизни. Я вспоминаю испачканный в чернилах пальчик, тряпичного забытого под столом лицедея, набитый соломой мяч, которым в меня так удобно было попасть… И она будто обретает зрение. Сомнений больше нет. Она протягивает ручки и делает быстрые, неловкие шажки. Она уже у меня в руках, у моего сердца. Цепляется пальчиками за мою одежду. Не то всхлипывает, не то смеется. А скорее, и то и другое. Это страх прорывается слезами, страх долгих, страшных ночей сиротства. А вместе со страхом нечаянный смех. Она что-то лепечет, но я не понимаю. Только прижимаю ее к себе, маленькую, хрупкую. Жесткий, уродливый чепец падает у нее с головы, и я целую ее мягкие, теплые волосы. Они у нее не такие темные, как у меня, сказывается белокурый локон Мадлен, а в раннем младенчестве она и вовсе была светловолосой. Мадлен где-то хранила ее первую прядку. Потом детские кудряшки стали быстро темнеть. И за этот месяц потемнели окончательно. Мать умерла и унесла в могилу все знаки своего присутствия. Остался только я. Она и чертами лица больше походит на меня, только носик как у Мадлен, чуть вздернутый. И лобик она морщит как мать. И вздыхает, и хнычет. Я держу в объятиях сразу обеих. Пытаюсь вымолить прощение у одной, обнимая другую. В этой маленькой девочке частичка моей умершей жены, половинка души. Если я сохраню эту драгоценную жизнь, то сохраню и Мадлен. Она не умрет окончательно. Не уйдет от меня. Она будет жить в этом маленьком теле и смотреть на мир из-под этих золотистых ресниц. Она будет счастлива. Ей в наследство достанется наша нерастраченная доля. Господь поровну отмеряет счастья. Мы своим воспользоваться не успели, потратили самую малость. Так почему же оставшуюся часть не унаследовать ей, нашей дочери?
Анастази отвернулась. Она будто стесняется представшего ей зрелища. Затем, не поворачиваясь, произносит:
– У тебя есть пара часов. Если повезет, я уломаю герцогиню оставить девочку чуть подольше. Но не обольщайся. Она согласилась на это свидание с большой неохотой. И в любой момент может его прервать.
Конечно может. Она все может. В роли божества она не упустит случая вмешаться в судьбу простых смертных. Но у меня есть время. Целых два часа! Да это же вечность! Такой удачи нам прежде не выпадало. Я был слишком занят, часто возвращался за полночь, когда Мария уже спала, или уходил так рано, что девочка еще не просыпалась. Я проводил с ней время урывками, делил сей скудный рацион между Мадлен, которая только и делала, что ждала меня, и Марией, которая в мое отсутствие изнывала в бездействии. А тут два часа! Какое великодушное божество.
Я унес Марию к себе. Она все так же зверьком сидит у меня на руках, спрятав личико и вцепившись в одежду. Она не шевелится и, кажется, не дышит. Боится нарушить возникшую связь, утратить ощущение безопасности, что давали ей мои руки. А вдруг я вновь исчезну? Я шагаю от окна к двери и обратно, целую в теплую макушку и беспрестанно повторяю:
– Я с тобой, моя девочка. С тобой. Не бойся. Я всегда буду с тобой.
Я лгу и знаю это. Через два часа ее вырвут у меня из рук, и одному Богу известно, свидимся ли мы снова. Нас разлучат надолго, может быть, навсегда. Мне обещали сохранить ей жизнь, позаботиться о ее будущем, о встречах с ней в этом будущем речи не шло.
Некоторое время спустя Мария затихает. Вертит головкой, оглядывается. Рассматривает окружающее ее пространство из-за моего плеча. Ничего угрожающего не видит и мягко ворочается:
– Пусти…
Любопытство возобладало.
Я немедленно уступаю. Она еще робеет, цепляется за мою руку, но очень быстро преодолевает свой страх. Детское сердце, к счастью, не умеет долго грустить. Быстро забывает печали и страхи, а если и стучит учащенно, так это от нетерпения и восторга. Все вокруг нее было слишком занимательным, чтобы избежать пристального изучения. Вот кровать под ярким, расшитым пологом. А полог весь в складках, по краям – золотые кисти. Она подбирается к резному столбцу у изголовья, подпрыгивает и тянет за кисть. Я подсаживаю ее на кровать, и она уже прыгает, елозит коленками по шелковому скрипучему покрывалу. Поглядывает на меня украдкой: одобряю или нет. Смейся, моя девочка, смейся. Изгони из этой комнаты злых духов.
– Пляво? – невнятно произносит Мария.
Это было первое членораздельное слово, которое я от нее слышу. То, что она бормотала сквозь плач у меня на руках, фразами и словами назвать было трудно. Она утратила приобретенный навык, за недели отчаяния откатилась в немое младенчество.
– А еще? Что еще ты говорила? Помнишь?
Мария смущенно улыбается, сунув в рот пальчик. Бессмысленно просить ее вспомнить. Кто заговорит с ней завтра? Она, само собой, будет улавливать то, что произносит бабка, но какие это будут слова?
Напрыгавшись, Мария вновь протягивает ко мне ручки. Я тоже интересен. Ведь я так изменился. Надо убедиться, освидетельствовать, я ли это. Или со мной что-то не так. Вот она трогает мою щеку, лоб, для верности тянет за волосы. Затем обеими ладошками прикрывает мне глаза.
Помнит! Мы с ней так прежде играли. Вернее, она научилась этому у Мадлен. Подглядела. Когда я возвращался усталый, с покрасневшими после бессонной ночи глазами, Мадлен охватывала мою голову руками и ладонями укрывала от света. А я намеренно моргал и щекотал ей пальцы ресницами. Мария это заметила, выбралась из своего убежища, и, стоило Мадлен отойти, как малышка, взобравшись ко мне на колени, сделала то же самое. Моргая, я щекотал ей ладошки, и она заливисто смеялась. Помнит! Она все помнит. Это было как последнее доказательство. Сомнений не осталось. Это ее отец.
«Сётно», – говорит девочка.
Это означает «щекотно», но я не стал ее поправлять. «Сётно» так «сётно». Затем ее внимание привлекает мой обшитый кружевом воротник, все эти складочки, узелки, петельки. Она, сопя, возится с нитяным плетением. Следующим ей становится интересен шнурок на моем камзоле. Свитый из шелковых нитей шнурок был увенчан перламутровым наконечником. Он ярко сверкает на солнце. Она тут же хватает его и тянет в рот.
– Нет, нет, Мария, это не конфета.
У меня нет ни одной игрушки, чтобы занять ее. Впрочем, отвлечь ее от познавательных подвигов было бы непросто. Она изучила завязки и крючки на мне и вот уже отправляется дальше. Есть еще столик с резными ножками, на котором возвышается хрустальная горка, разноцветные шпалеры с красноязыкими собаками, разверстая пасть камина, куда она не преминула бы залезть, если бы не решетка, высокий прямоугольник окна и рядом с ним придвинутое кресло. К нему она и направляется. Чтобы, упершись ручками и по-всаднически забросив ножку, лечь животом на это препятствие, немного побарахтаться и через мгновение уже попирать ногами покоренный редут. Я следую за ней по пятам, готовый подхватить, если она сорвется, но восхождению не мешаю. Вот она уже залезает с ногами, вот выпрямляется, уже держится ручкой за высокую спинку и пытается выглянуть в окно. Там, в этом пламенеющем четырехугольнике, – манящая светополосица. Солнечные пятна, согбенные, мятущиеся тени, ветви деревьев, дробно стучащие в стекло. Она пытается встать на цыпочки, но едва достает лобиком до подоконника. Тогда я подхватываю ее и ставлю на этот недосягаемый подоконник. Она смотрит вниз и замирает. С досадой я думаю о том, что не спросил Анастази, можно ли нам спуститься в парк. Там, внизу, цветочные гроздья, белые дорожки, зеленые травяные полотнища. Ей бы побегать…
В это время за моей спиной скрипит дверь. Я оглядываюсь. Входит Любен с большим серебряным подносом.
– Тут сладости, фрукты. Холодная телятина, – как-то вбок глухо произносит он, водружая поднос на стол. – И вы, сударь, поешьте.
– Спросите у мадам де Санталь, можем ли мы спуститься в парк. Пожалуйста.
Он молча кивает.
Мария уже забыла про окно и волшебный зеленый ковер за ним, только во все глаза смотрит на изменившийся стол и собрание предметов на нем. Сам поднос отражает своими серебряными ребрами солнечный свет и раскидывает мелкие желтоватые пятнышки по темным шпалерам. Это уже само по себе выглядит замечательно, но и то, что возвышается на подносе, не менее аляписто и забавно. Мисочки, тарелочки, крышечки, ложечки. И содержимое у них заманчивое. Она такого никогда не видела. Разноцветные ломтики засахаренных фруктов, подсушенная вишня, кубики дыни. Под серебряной крышкой оказывается воздушное суфле. Пожалуй, за все мое пребывание в этой тюрьме я ни разу не смотрел на предложенные мне изыски с нескрываемым вожделением и мысленно не возносил хвалу тем, кто это сотворил. Мария, очарованная сахарным куполом суфле, тут же запускает в него руку, с хрустом разламывает, затем задумчиво извлекает липкие пальчики. Сердцевина оказывается творожной, с дроблеными зернышками орехов. Мария оглядывает перемазанные пальчики и слизывает сладкий творог. Я не в силах удержаться от смеха. Душу его в себе, закрываюсь рукой, но справиться не могу. Мария, скосив на меня лукавый глаз, продолжает медленно слизывать начинку. Мне следовало бы нахмуриться, сдвинуть брови, сыграть в строгого отца, но я, нарушив приличия и нормы, следую примеру своей маленькой дочери. Так же самозабвенно слизываю осколок ореха с указательного пальца. «Пляво, папа, пляво».
За этим занятием – варварским уничтожением злосчастного суфле, из которого мы наперебой вылавливали кусочки фруктов, – нас застает Анастази. Она так изумлена, что не может заговорить. Брови ползут вверх, губы приоткрываются, она шумно выдыхает.

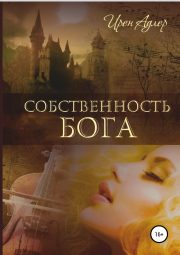
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.