Вскоре настал и мой черед. Мадам Гранвиль поправила мою курточку и пригладила волосы. Уже давно эта буйная поросль вызывала у нее раздражение. Волосы падали мне на глаза, и она утверждала, что я похож на волчонка. Я не знал, кто такой волчонок, но определил, что это нечто плохое. Однажды она схватила ножницы и, зажав меня между коленями, оставила бугристый, с проплешинами ежик. Волосы вновь отросли. Но на этот раз она не стала их стричь. Ограничилась тем, что провела мокрой рукой и согнала непослушную прядь со лба. Чтобы не смотрел, как звереныш. Затем взяла меня за руку и увела. Я не испытывал сожаления, но все же напоследок оглянулся. Это место, полутемное жилище, неприветливое, мрачное, стало источником моих первых воспоминаний. Там я мог укрыться от холода, там произнес свои первые слова. Там было что-то похожее на дружбу. А теперь я уходил и не знал, что ждет меня впереди.
Мадам Гранвиль привела меня на улицу Шардонне, к большому постоялому двору. Он принадлежал кому-то из ее дальних родственников.
Хозяина звали Эсташ. Слуг и служанок у него было достаточно, но нужен был кто-то еще, на совсем уж черную работу, желательно мальчишка, сирота. Месье Эсташ вовсе не напоминал того жилистого мясника, чью внешность я приписывал Богу, напротив, был тщедушен и мал ростом, но мне он показался гораздо более опасным. Мясник потрясал тесаком и угрожал, а этот мог, не произнося ни слова, убить.
Конечно, такие выводы я сделал гораздо позже, уже взрослым, а тогда я просто дрожал. За мою жизнь мадам Гранвиль получила несколько су. И расписку. Месье Эсташ стал моим господином. Моим первым владельцем.
Я работал – днем, ночью, вечером, утром. Трактир был большой, посетителей много. Иногда день и ночь менялись местами. Если я падал от усталости, любой из слуг мог пинком разбудить меня и послать за водой или на кухню. Я чистил овощи, щипал птицу, сгребал потроха, выносил помои, по десять раз на дню спускался в погреб, таскал тяжеленные бутыли с вином и уксусом, перебирал рис и бобы. И еще я постоянно таскал воду. Много воды. Вода требовалась на кухню, для мытья глиняных горшков, для чистки посуды, для приготовления супа, для привередливых гостей, для капризной хозяйки, для прачки и еще много для чего. Я таскал и таскал эту проклятую воду, по ведру в каждой руке, сползая по мостовой к набережной, сбивая колени и ломая спину. Иногда на обратном пути у меня подгибались ноги, и я падал, опрокидывая на себя ведра. Промокший до нитки, я поднимался и возвращался на набережную. За водой. Без нее я не мог вернуться. Без нее меня ждали поломанные ребра и голодная ночь в чулане. Меня запирали в нем вместе со старой утварью. Первые несколько ночей я спал на голом полу, а затем кто-то из сердобольных служанок бросил мне несколько старых, побитых молью юбок и дырявый капор. Зимой я мерз, летом задыхался. От усталости не разгибались пальцы, от голода сводило живот. Но я не умер, я выжил. И как-то даже окреп. Для хозяина я по-прежнему оставался мелким домашним животным, но прачка время от времени гладила меня по щеке, служанка, столкнувшись со мной, совала в руку яблоко, кухарка приберегала кусок пирога, и даже хозяйка, мадам Эсташ, заметив как-то, что у меня красивые глаза, сказала, что если меня отмыть, я мог бы прислуживать за столом.
А потом случилось это. Меня заметил хозяин. Прежде я был словно невидимка, часть кухонной утвари, старательный, безотказный, он бы и в лицо меня не узнал, поинтересуйся кто, тот ли это мальчишка, что воду таскает. Но тут он спустился на кухню, когда там, по редкой случайности, было тихо. Поварята гурьбой высыпали во двор птицу щипать. Повар с кухаркой осматривали битых гусей, а служанки судачили с зеленщиком и помощником пекаря. Я остался один над мешком белого редиса, с которого обдирал ботву. От томящихся соусов и кипящих супов было душно. Я стянул куртку и поминутно вытирал со лба пот. Ныла спина. На минуту я прислонился к высокой плетеной корзине, чтобы передохнуть. Ладони стали зелеными и кое-где саднили. Похоже, я задремал. Но тут же проснулся, будто кто-то толкнул меня в бок. На пороге стоял хозяин и смотрел на меня. Внутри все оборвалось. Я торопливо стал выхватывать из мешка белые землистые корнеплоды и выверенным движением обрывать листья. Он перешагнул порог и приблизился. Я внутренне напрягся. Сейчас он ударит меня. Я позволил себе заснуть. Я бездельничал. Предметов, дабы произвести экзекуцию, было в избытке. Соусные ложки, черпаки, скалки, каминные щипцы. Он ударит меня тем, что окажется ближе. Я невольно повел плечом и хотел уже закрыть лицо руками. Но он меня не ударил. Только приблизился. От его суконного передника пахло чем-то кислым. Я видел пятна на порыжевших башмаках. Этот человек за весь год моего пребывания в его гостинице и работы на него не сказал мне ни единого слова, а я безумно его боялся. Вдруг он взял меня за подбородок и заставил поднять голову. И потянул еще выше, вынудив встать. Я зажмурился. Чувствовал только холодные, сухие пальцы, что впивались мне в кожу. Сердце бешено колотилось, и в груди стало пусто. Вдруг он меня отпустил и ушел.
Я еще некоторое время стоял, оцепенев, а затем едва не повалился на корзину, из которой торчали зеленые побеги проросшего лука. Вернулись, гогоча и переругиваясь, поварята. В руках у каждого по розовой голенастой тушке. На меня даже не взглянули, но я все же предпочел вернуться к редису. До самого вечера все шло как обычно. Я бегал взад и вперед, выполняя мелкие поручения, которые с наплывом постояльцев сыпались на меня со всех сторон, получал тычки, затрещины, оборачивался на голоса. Спотыкался и падал. Только далеко за полночь, когда постояльцы окончили ужин, мне удалось оказаться в своей каморке и наконец упасть. А упасть для меня означало уснуть. Иногда мне казалось, что я и не сплю вовсе, так быстро пролетали эти несколько часов. С первыми лучами солнца громыхали бидоны молочника. Я просыпался и бежал во двор, чтобы помочь кухарке стащить эти огромные емкости с шаткой телеги. Закрыл глаза, а открыл уже перед бидоном с молоком. А момент провала в сон и вовсе от меня ускользал. Я засыпал, еще не коснувшись своего жалкого тряпичного ложа. В ту ночь я так же провалился в сон, но разбудил меня не грохот бидонов. В темноте на меня кто-то навалился…
Кто-то огромный, душный поворачивал меня лицом вниз, больно давил на затылок. Я уловил опасность не разумом – телом. Я был слишком мал, чтобы понимать или рассуждать. Разум еще не проснулся, а тело уже стянуло в дугу. Спасаться. Бежать. Страх будто наполнил меня воздухом и швырнул вверх. Страх подсказы вал, что делать. Я изогнулся так, что зубами смог дотянуться до навалившегося врага. Это было плечо под холщовой рубашкой. Знакомый кислый запах. Я вцепился, как волчонок, с которым меня так часто сравнивали. Нападавший взвыл и отпустил меня, но в следующий миг я получил удар в переносицу. Из глаз посыпались искры, я откатился в сторону, но сознания не потерял. Наоборот, боль усилила страх. Я не знал, что нападавший хочет от меня, но то, что это угрожает моей жизни, не сомневался. Темная фигура надвинулась. Сквозь слуховое окно проникал свет, я видел растопыренные пальцы. Он надвигался, путь к бегству был отрезан. Я перебирал по земляному полу руками и ногами – отползал к стене. Вдруг ладонь легла на нечто круглое и шершавое. Жесткий, увядший плод. Репа или брюква. В этом чулане иногда хранили мешки с овощами. Я схватил шар и бросил в надвигающегося врага. Швырнул отчаянным, звериным броском. Попал. Он опять взвыл и схватился за голову. Потом забулькал, заскулил и уже не пытался приблизиться. Подскакивал и бил ногами. Глухо урчал и взвизгивал. Увернувшись, я зацепил несколько составленных друг на друга глиняных горшков. Они рухнули с оглушительным грохотом. И тут же где-то рядом послышались голоса: «Пожар! Грабят!» Сразу все заворочались, застучали. Наверху бухнула дверь. Нападавший сразу отступил. Он шептал что-то многообещающе мерзкое. Голос в темноте, как клекот. Снова дохнуло кислым, и тут я узнал его. Хозяин! А кислый запах – от его старого кафтана в пятнах мясного соуса. Этот кафтан был очень старым, в жирных разводах, но хозяин никак не мог с ним расстаться. Чего бы он ни надевал под этот кафтан, даже новую сорочку, все мгновенно пропитывалось этим гнилостным, жирным запахом. Я укусил хозяина. Я ударил его. Но что он от меня хотел? Я не знал. Почему он спустился ночью из своей спальни в мой грязный чулан? Он хотел меня убить? Но если он хотел меня убить, он мог бы сделать это и днем. Мог взять плеть, трость, наконечник разливной ложки, кочергу и забить меня насмерть. Он заплатил за меня несколько монет. Он имел на это право. Что же он делал здесь? Впрочем, теперь он убьет меня наверняка. За дверью нарастал шум. Искали пожар.
Мне недолго осталось жить. Скоро рассвет. Я покосился на крошечное слуховое окно под потолком. Высоко… Но меня вел все тот же животный страх, который помогает кошке выбраться из горящего дома. Я подтащил из угла мешок с луком, взгромоздил на него большую плетеную корзину кверху дном, а затем взобрался на импровизированную лестницу. Это было несложно. Я так долго учился балансировать с двумя полными ведрами над обрывом набережной, что хватило двух коротких движений. Я даже сообразил выбросить в окно пару своих растоптанных сабо, которые падали с ног, но оберегали от заноз и уличной грязи. На шею я нацепил связку сушеных грибов, а за ней связку мелкого лука. С десяток таких связок было развешано по стенам моей каморки. В ушах прозвучал голос кюре: «Грех!», а когда выбрался на улицу, то даже втянул голову в плечи, ожидая, что сейчас с небес протянется жилистая, волосатая рука и схватит меня за шиворот. Но это быстро прошло. К тому времени мне уже с трудом верилось в карающую длань Господа. Я столько раз видел, как воровство оставалось безнаказанным, что видение Страшного суда значительно потускнело. Кюре твердил о десяти заповедях, грозил вечными муками, а люди вокруг только тем и занимались, что опорожняли карманы ближнего. Слуги воровали у хозяина, хозяин обсчитывал постояльцев, постояльцы грабили друг друга. Однако Бог вовсе не спешил вмешаться и пустить в ход свою жилистую длань. А если нет, то чего бояться? И я поудобней расположил обе связки у себя на шее.

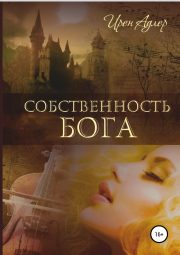
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.