Герцогиня вновь изучает меня. Обходит вокруг, будто проверяет, достаточно ли крепко связаны руки, не вырвусь ли, не повторю ли прежнее безумство. Не тревожьтесь, ваше высочество, локти стянуты так, что в плечах вывернулись суставы. Кисти рук онемели. За эти дни я ослабел, мне ремни не порвать. Да и незачем. Пусто внутри, даже ненависти не осталось. Теперь она разглядывает мое лицо. Как видно, мне потому и принесли воду. Чтобы выглядел пристойно. Если бы мог, я бы усмехнулся. До пристойности тут далеко. Вид у меня, как у бродяги с большой дороги. Я все еще в той сорочке, на которой кровь Мадлен, вонючей и грязной. Волосы свалялись от пота. На подбородке щетина. Помимо воли я чувствую себя неловко. Отвратительное, должно быть, зрелище. И жалкое. Что ж, это сократит время ее раздумий. Она преисполнится отвращения и отошлет меня прочь – в вечность. Но она медлит. Склоняет голову на бок. Глаза ее странно блестят. Она как будто в нерешительности. Не знает, что предпринять? Выбирает казнь? Прикидывает, как вынудить преступника заплатить наибольшую цену?
Я опускаю голову и разглядываю ковер. Скорей бы все кончилось… Я устал, мне больно. Со связанными руками мне не так просто удерживать равновесие. В голове у меня мутится. В любую минуту могу завалиться на бок.
Слов ее я почти не слышу. Слышу только ее голос. Вкрадчивый, скользкий, с едва различимым шелестом. Будто ветер в листве. Предвестник бури. Подбирается, манит. Она говорит о Мадлен. Она сожалеет. Ее слова падают в пустоту ума и там всходят, распускаются, как ядовитые цветы. Она пытается как-то все объяснить, утверждает, что виной всему неведомый план Божий, судьба. И еще, что она готова меня простить! Что она сохранит мне жизнь! Она так великодушна, что готова поступиться своей гордыней.
– Зачем? – срывается с моих губ. – Ты сам знаешь. Я не понимаю. Вернее, не желаю понять. Не хочу. Я гоню эту догадку, которая не в первый раз смущает мой разум.
Нет!.. Я забываю о боли в спине, о ломоте в руках, о тяжести, что клонит мою голову, и смотрю на нее в упор. Спутанные, жесткие волосы лезут в глаза. Господи, да кто же это передо мной? Кто?! Человеческое ли существо или отпрыск адовой бездны? Часть ее лица скрыта тенью, а другая слепит мраморной белизной. Рот ее кривится, губы приоткрываются. Мне становится душно. И страшно от этого неподвижного взгляда, от прозрачной белизны кожи. Она касается моего лица, вынуждая вновь поднять голову. Мои попытки освободиться ни к чему не приводят. Ремни впиваются еще глубже, режут кожу, ломают кости.
– Лучше умереть… Я задыхаюсь от собственного бессилия. Внутри огонь, мучительный водоворот. Господи, где же Ты?
Она жадно наблюдает, даже облизывает губы. Снова вынуждает смотреть вверх. От ее прикосновений я содрогаюсь.
– Тебе нужно отдохнуть, – ласково говорит она. – О прочем мы поговорим завтра.
Глава 11
Он еще далек от того, чтобы принять свою участь и смириться. Он еще, как только что изловленный дикий и прекрасный зверь, будет грызть и расшатывать свою клетку, пока не поймет, что стальные прутья только ломают ему зубы и обдирают в кровь рот, что покорность будет вознаграждена вкусным дымящимся куском мяса и теплой мягкой подстилкой, а упрямство и строптивость обернутся горящими на коже рубцами. Но он это непременно поймет. Он поймет! Он все же человек, а не зверь. И одарен всеми преимуществами и недостатками Адамова сына.
***
Я знаю, что я для нее – вещь. Не человек, не мужчина, не любовник. Только вещь. У нее много вещей, и я одна из них.
Меня снова ведут вниз. Руки связаны за спиной. Боль в вывороченных суставах, кисти занемели. Со мной высокий рыжий парень и та темноволосая придворная дама, лицо которой мне кажется знакомым. Она несколько раз как-то тревожно оглядывается, когда я второй или третий раз спотыкаюсь. Но приводят меня не в каземат, а в большое помещение рядом с кухней. Там стоит большой стол, скамьи вдоль стен, несколько табуретов, ларь, кухонная утварь. Я догадываюсь, что это людская. Двое слуг закатывают в кухонную дверь бочонок. Кухарка перебирает в углу овощи. Поминутно хлопает дверь. Треск поленьев, голоса, перебранка. Придворная дама делает знак рыжему парню. И он освобождает мне руки. Ему это удается не сразу, он неловко дергает, и я морщусь от боли.
– Осторожно, – говорит придворная дама. В глазах ее все та же тревога.
Вместе с ремнями парень снимает с меня одежду, до последней нитки, все эти жалкие, грязные лохмотья. И я стою посреди комнаты, среди снующих вокруг людей совершенно голый. Странно, но я не чувствую стыда. Будто деревянный. Или неживой. Толстая кухарка бросает на меня любопытный взгляд, и придворная дама не сводит глаз, но мне это безразлично. Другие слуги и вовсе в мою сторону не смотрят. Кто я? Всего лишь вещь. Герцогиня обзавелась безделушкой, а им эту безделушку велено отмыть. Рыжий парень втаскивает большую лохань. В очаге над огнем висит огромный медный котел, и парень наполняет лохань водой. За кухонной дверью несколько любопытных голов, но придворная дама усмиряет их одним взглядом. Парень берет меня выше локтя и подталкивает к лохани. Я подчиняюсь. Вещь всегда поступает так, как ей велят. Но оказаться в теплой воде приятно. Я неожиданно чувствую слабость и закрываю глаза. Какое блаженство… Внутри раскручивается какая-то жесткая стальная пружина. Я еще жив, и кровь струится по жилам, и грудь вздымается. С кожи сходит отвратительный грязно-бурый налет. Парень выливает ковш горячей воды мне на голову и ловко орудует мылом. Пена приятно пахнет миндалем. Ранка на виске пощипывает. Впервые другой человек делает за меня то, что я привык делать сам. Более явственно чувствую себя вещью, неодушевленным предметом. Меня поднимают, опускают, переворачивают. Парень действует умело и быстро. Приносит еще воды, разбавляет холодной. Пар поднимается к потолку, к закопченным балкам. Наконец он опрокидывает на меня последний ковш. И я снова посреди комнаты, голый, но уже розовый и блестящий. Вещь приобретает товарный вид. Мне становится холодно, но парень набрасывает на меня простыню. Ее минуту назад принесла пожилая служанка. Парень обтирает меня этой простыней, как взмыленного коня. Задевает кровоподтеки, я снова вздрагиваю.
Рядом с придворной дамой появляется следующий персонаж. Худой, сутулый, весь в черном. У него лицо цвета пергамента, глубокие складки у рта. Глаза утоплены под надбровные дуги, но горят насмешливо и ярко. Это не лакей, скорей всего, лекарь. Черная хламида, на плече кожаная сумка с принадлежностями. Меня в третий раз в первозданном виде выводят на свет. Теперь я предмет для научных изысканий. Лекарь оттягивает мне веки, заглядывает в рот, в уши, пробует густоту и крепость волос. У него проворные, жесткие пальцы. Он действует ими как хорошо отлаженным инструментом. Исследует меня под мышками и в паху. Не вздуты ли узлы. Первый чумной признак. Нет ли признаков неаполитанской хвори. Я пытаюсь отшатнуться, но рыжий парень держит меня за локти. Вещь должна быть безупречна. Только после этого лекарь осматривает кровоподтеки на моих руках, ссадины на ступнях и коленях. Выудив из кожаного мешка баночку с бальзамом, смазывает вспухшие синюшные пятна. У бальзама терпкий травяной запах. Арника, зверобой и еще, кажется, абрикосовое масло. Прочих ингредиентов угадать не могу. Лекарь, отставив банку, – в сторону парня:
– Утром смазать еще раз. – Затем уже придворной даме: – Хороший ужин, и пусть поспит.
Забрасывает на плечо сумку и выходит. Приближается придворная дама. У нее глаза чуть раскосые, блестят все так же тревожно. В них что-то очень живое, беспокойное. Она заглядывает мне в лицо.
– Что бы ты хотел на ужин? – тихо спрашивает она. Я даже не сразу понимаю, что она обращается ко мне. Почти оглядываюсь, чтобы найти того, кому это предназначено.
– Я не голоден, – отвечаю. – Тебе нужно поесть, – настаивает она. И делает знак рыжему парню. Придворная дама права – мне нужно поесть. Я даже вспомнил ее имя – Анастази. Вспомнил, где прежде видел ее: в нашей больнице Св. Стефана. Сам привел ее туда. Ей стало дурно на улице, она истекала кровью. Последствия неудачного вмешательства и удаления плода. Теперь она пытается рассчитаться со мной за услугу. Во всяком случае, она единственная, кто признает во мне существо одушевленное. Даже для окружающих слуг я только господская прихоть, ручной попугай. Им чрезвычайно любопытно. Они глазеют на меня с интересом, строят догадки. Что же это за новое приобретение? Но ужин мне подают изысканный и, к счастью, позволяют одеться. Голода я не испытываю, но по настоянию Анастази наливаю вина, белое бордо, и это сразу оказывает действие. Засосало под ложечкой. Блюд много, но я ограничиваюсь чашкой бульона и цыпленком под соусом. На сладкое – ложечка айвового варенья. Пробую и тут же жалею об этом. Любимое лакомство Мадлен… Придворная дама уговаривает попробовать что-то еще, фазанью грудинку или фаршированного бекаса, но я отказываюсь. Тогда она говорит, что отведет меня в комнату, где я смогу отдохнуть. Первое предписание врача выполнено, за ним следует второе.
Комната роскошная. Стены обиты бархатом, на окнах тяжелые портьеры, кровать под шелковым балдахином. Я никогда ничего подобного не видел, даже покои епископа отличались монашеским аскетизмом, и тем более я никогда в таких апартаментах не жил, но я не обескуражен. Скорее удивлен. Эта роскошь угнетает. Давит, нависает, как скалистый отрог. Но постель выглядит очень свежей, уголок покрывала откинут. Я вновь ловлю себя на предательской слабости. После влажной соломы и старого тюфяка эта шелковая купель предстает, как видение рая, как ложе божественного отдохновения, на которое я спешу упасть, тем более, что после пережитых волнений, унижений и выпитого вина у меня подкашиваются ноги. Я едва сдерживаюсь, чтоб не укрыться с головой, не скрыться в темном и теплом убежище и не замереть. Пусть даже эта кровать часть враждебного мира, пусть она принадлежит врагу, я найду здесь временный покой.

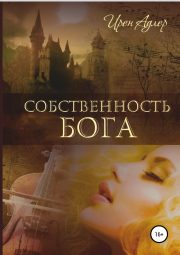
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.