— Лена, где теперь обитаешь? — поинтересовалась Настя.
— Не где обитаю, а чем живу, милая, — таинственно улыбнулась оккультная дама, — мы сняли квартиру на Садово-Кудринской.
— Кто это — мы?
— Зеленые братья. Понимаешь, мы учредили „Орден зеленого братства“. Все лето пропутешествовали, были в Средней Азии, ходили по долинам и по взгорьям. А теперь сняли квартиру. Мы не можем друг без друга.
— И много вас?
— Пять человек, не считая учителя.
— Лена, все слышали про белых братьев… Ваша „зеленая лампа“ не из той же серии?
— Приходи — узнаешь, — многозначительно подмигнула Дробова, — я написала трактат, хотела попросить тебя почитать, хотя бы взглянуть сторонним глазом. Ну стиль или еще что-нибудь…
Она быстро написала в блокноте адрес, вырвала листок и сунула Насте в карманчик жилета. При этом жилет с неизбежностью распахнулся, и Ленка восхищенно воскликнула:
— Ну ты, мать, даешь!
— Еще нет, — парировала Настя, уловив отчетливые лесбийские нотки в ее голосе.
Дробова, высокая, сухопарая, небрежно причесанная, должно быть, играла в дамских дуэтах активную роль. Так сказать, роль смычка, а не скрипки.
Анастасия, уже на ходу обещая непременно заглянуть на огонек, обрадовалась, что освободилась, хотя еще несколько минут назад радовалась, что пропавшая Ленка нашлась.
Стоя на троллейбусной остановке, Настя успела заглянуть в только что приобретенный трактат „Клуба любительниц огурцов“: „Огурцы лучше, чем мужчины, потому что с огурцами нетрудно знакомиться, огурец можно пощупать в универсаме и заранее узнать, твердый он или нет… Огурец никогда не представит Вас как „просто знакомую“… Огурец не спрашивает: „Я у тебя первый?“… С огурцом нет нужды быть невинной больше одного раза… Огурец не скажет: „От аборта еще никто не умирал“… Огурцы не едят сухарей в постели… Огурец не играет в рок-группе и не „ищет себя“ до 40 лет… Огурец не спросит: „Тебе понравилось? Правда, я лучше, чем он?“… Бросить огурец — проще простого“. „Ну и ну!“ — восхитилась Настя. Овощная эротика пробудила в ней аппетит: „Неплохо бы купить килограммчик, пока сии овощи окончательно не отошли. Малосольные — они чудо как хороши!“
В издательстве, таком же частном, как жизнь каждого из нас, ее встретил седовласый Марк Самойлович, импозантный и ироничный.
— Настенька, — он широко улыбнулся, — должен вам сказать, что вы чудесно выглядите, милая.
Она приняла комплимент как должное и игриво улыбнулась:
— И я рада вас видеть.
— Вы обещали быть после обеда, а теперь уже четыре, — упрекнул издатель.
— Неужели вы станете утверждать, что я пришла до обеда?
— Ха-ха. Умница. Но я, собственно, звал вас по делу.
Настя насторожилась:
— Я вас слушаю, Марк Самойлович.
— Настенька, как я понимаю, вы много читаете и в то же время ведете… не слишком затворнический образ жизни. А потому имею смелость предположить, что вам вполне по силам написать что-нибудь эротическое, но красивое.
— Марк Самойлович, народ объелся эротикой.
— Не скажите… Людям набила оскомину порнуха и низкопробщина. А я прошу вас написать что-нибудь эстетически-эротическое, яркое и сладкое, но не слащавое. Наши дамы жаждут читать про красивую любовь.
— Пусть читают „Анну Каренину“.
— А что, была у меня идейка описать интимную сторону жизни этой женщины… Но, знаете ли, пришлось отказаться. Тяжко творить в тени великого Толстого. А вам я предлагаю взять тему вовсе нейтральную, что-нибудь из жизни незнакомых нам аристократов. И экстраполировать. Понимаете, современные нувориши очень любят читать про „тогдашних“ знатных и богатых. Российские Рокфеллеры только в кошельках и имеют. А в голове у них — нище и голо. Они долго еще будут чувствовать себя в душе просто разбогатевшими бедняками.
— Пока не сменится поколение, — вставила Анастасия.
— Совершенно верно. В свое время в почитаемой нами Америке образованная буржуазия возникла именно из выучившихся детей пиратов и преступников. А рынок, в том числе и книжный, должен быть рассчитан на то, что есть. Как говорят буддисты, на „здесь“ и „сейчас“.
— Конкретно, Марк Самойлович, что вы мне предлагаете?
— Вот это деловой разговор, Настенька. Запомните или запишите, — он улыбнулся, — я предлагаю вам написать красивый эротический текст страниц на сто — сто пятьдесят. Сроки — месяца два.
— Понятно. Постараюсь изобразить.
— Да, а ваш детективчик я „зарезал“, — как бы между прочим вспомнил издатель. — Чернуха, знаете ли. Кровь, трупы. И откуда только у такой милой поэтесски берутся такие кошмарные фантазии?
— Как… „зарезали“? Вы же сами мне предложили тему!
— Тему, но не способ ее раскрытия.
— И не будете издавать? — выдавила Настя, пытаясь проглотить ком, застрявший в горле.
— Мы выплатим вам неустойку. Это, конечно, меньше, чем мог бы быть гонорар, но все же… Так что — в добрый путь. Творите.
Она шла, опустошенная и убитая неудачей. Труд, на алтарь которого принесено лето, оказался в мусорной корзине! Ездила на места происшествия с опергруппой, скрупулезно вгрызалась в дело, искала ходы и приемы… И как возможно было написать не „чернуху“, а красивенький детективчик, если разложившийся труп женщины, пробывший неделю в жаре, до сих пор стоит в глазах. Слава Богу, новое задание не принудит ее „изучать материал“. Она напишет им красивенькую эротическую историйку — яркую, как лубок.
Настя вспомнила, что нужно забрать у Марины сборник „Славянское барокко“ и отправилась в общежитие института. Ей смертельно надоели погружения в метро, как в утробу, как в брюхо монстрообразного организма. Хотелось смотреть на белый свет и видеть свой путь. Она села в троллейбус. Чтобы скоротать время, снова раскрыла „Тропик Рака“. „Я так злюсь на самого себя, что готов себя убить… собственно, именно это и происходит всякий раз, когда у меня оргазм. На какой-то миг я словно исчезаю вообще… От моих обеих личностей ничего не остается… все исчезает… даже п… Это вроде причащения. Честное слово. Несколько секунд я чувствую духовное просветление… и мне кажется, что оно будет продолжаться вечно — как знать? Но потом вижу женщину и спринцовку и слышу, как льется вода… эти маленькие детали… и опять становлюсь таким же потерянным и одиноким… И вот за единственный миг свободы приходится выслушивать всю эту чушь о любви… Иногда я просто стервенею… мне хочется выкинуть их вон немедленно… бывает, я так и делаю. Но это их ничему не учит. Им это даже нравится. Чем меньше ты их замечаешь, тем больше они за тобой гоняются. В женщинах есть что-то извращенное… они все мазохистки в душе“. Миллеровский поток сознания вернул ее мысли к Ростиславу. Она пыталась отогнать их прочь, в иную жизнь.
Семиэтажное общежитие затеняли высокие тополя, посаженные, наверное, одновременно с закладкой фундамента здания. Настя извлекла из сумки пропуск, добытый нелегальным путем, и спокойно прошла в это легендарное „гнездилище порока“.
Комнаты выходили прямо в длинный коридор тюремного вида, сюда же „впадали“ кухни и уборные, распространяя запахи подгоревшего лука, загаженных мусоропроводов, перегара и спермы. Она шла под аккомпанемент свиста чайников, звона стаканов, ключей, бренчания гитар, детских голосов, хохота и визга.
Марина жила в самом конце этого бесконечного пути — в так называемом „сапожке“ — привилегированном аспирантском лежбище. „Сапожок“ представлял собой две смежные комнаты, обособленные от общего коридора маленькой прихожей. Но главная привилегия состояла в том, что обитательницы „сапожка“ имели в своем полном распоряжении не только кран с холодной водой, но и индивидуальную уборную.
Марина, как всегда, оказалась дома. Как, впрочем, и ее соседка. Между учеными дамами шла жестокая двухлетняя война. Они выслеживали и подкарауливали друг друга, воровали куски мяса из кастрюль, сплетничали и распускали друг о друге самые нелепые слухи.
Настя, начитавшаяся Фрейда вкупе с Фромом, смутно предполагала, что причина вражды крылась в воздействии архитектуры на утонченную дамскую психику. Общая прихожая смоделировала квазиобщий дом, подобный двуглавой змее. И общая дверь, защищающая обитательниц „сапожка“ от внешнего мира, превращала их „сапожок“ в западню. Настасья Филипповна подозревала, что самая большая ошибка аспиранток состоит в том, что они к своим тридцати годам не доросли до осознания возможности групповой любви и со временем взаимная симпатия и общие взгляды на перспективы развития русской литературы эволюционировали в неприглядную, с каждым днем все более очевидную, бездонную и черную ненависть.
И сегодня, прямо с порога, Марина зашипела: „Проходи скорей в комнату, мегера уже, наверное, подслушивает“.
В полуоткрытое окно врывался истошный вой троллейбусов, сдобренный мелодичным подзинькиванием упакованных в решетчатые ящики бутылок: машины с тарой почти непрерывно следовали в сторону Останкинского молочного комбината.
— Как можно жить в таком шуме? — Настя поморщилась.
— Привычка, — обреченно произнесла Марина. — Человек ко всему привыкает.
— И к этому тоже? — Настя кивнула в сторону линии фронта. Из-за стены соседки раздавалась оглушительная музыка.
— Представляешь, в субботу эта гадюка заволокла к себе абхаза, и я была вынуждена слышать все, что там происходило. Стенка такая тонкая.
— Затолкнула бы в уши „беруши“ и спала. Но я ж тебя знаю. Ты прислушивалась. Признайся, так?
Марина сразу же попыталась перевести разговор на другую тему:
— У меня неприятности. В издательстве.
— С переводом? — Настя знала, что Марина подрабатывала переводами с английского.
— Они зарезали Харольда Роббинса.
— Насмерть? — съязвила Анастасия.
— Качество моего перевода их устраивает, но они взяли нового редактора, кажется, ассистента кафедры зарубежной литературы из МГУ. Рафинированного типчика со следами воздействия эдипова комплекса. Так вот, он в ужас пришел от сцены, где рабыне запихивают ручку кинжала в п… Закатывая глаза, прочитал о Фолкнере, по которому писал диссер. Спрашивается, если он такой интеллектуал, то какого беса пошел в это издательство?

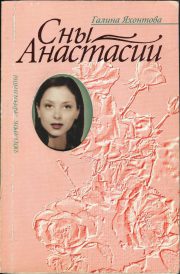
"Сны Анастасии" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сны Анастасии". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сны Анастасии" друзьям в соцсетях.