— Почему мне нельзя к дедушке? — гнула свое Лили. — Ты сама спросила. А я и говорю: поедем к дедушке, тогда мне будет хорошо. Хочу к дедушке!
— Я не дедушку имела в виду, когда спрашивала, а твоего папу.
— А папа тут при чем? — удивилась Лили.
— При всем! — Я раздраженно всплеснула руками. — Я из сил выбиваюсь, чтобы тебе было хорошо. Чтобы тебе жилось лучше, чем мне в твои годы. Но я же не волшебница, я не могу быть тебе папой.
— И дедушкой не можешь быть!
Я зажмурилась, застонала:
— Отлично! Твоя правда. И дедушкой не могу быть.
Лили надолго замолкла, потом повозилась на кровати и затихла. Я открыла глаза. Лили лежала на спине, уставившись в потолок.
— Наверное, тебе надо перестать выбиваться из сил, — проговорила она. — И не стараться быть всеми сразу.
— А по-моему, идеально налаженная жизнь — это счастливая жизнь.
— Идеальной жизни не бывает, — глубокомысленно изрекла Лили.
— Я и не знала. — Откинувшись на свою подушку, я повернулась лицом к дочери: — Я тебя подвела, да? И в один прекрасный день все это всплывет на консультации у психолога?
Лили фыркнула:
— Уж будь уверена! Только ничего ты меня не подвела. Просто мне нужно то же, что и всегда: правда. Я пойму, мам.
— Ты ее получила. Воз и маленькую тележку правды. Пакость, верно?
— Да, иногда.
— И ты хочешь еще?
— Хочу. — Лили положила руки под щеку, не сводя с меня глаз. — Я не боюсь. И потом, меня Бог бережет. Можешь не волноваться.
Я вскинула бровь. Однако мудрая у меня дочь. Удивительный ребенок.
— Откуда ты знаешь, что Бог тебя бережет?
— В псалмах так написано.
— С каких это пор ты читаешь псалмы?
Прайсы всегда были примерными прихожанами, но чтобы цитировать Святое Писание? Такого за нами не водилось.
— Сара читает нам молитвы перед репетицией живых картин. Вчера про это рассказывала. Это такой обет. Сара говорит, Бог мой заступник и спаситель.
— А мне казалось — я твой заступник.
Лили молчала.
— Ладно. — Я убрала прядь волос у нее со лба. — Я все поняла. Ты растешь. Ты сильная, и мудрая, и удивительная. И ты достаточно взрослая, чтобы знать, почему тебе нельзя к дедушке.
— Я взрослая?
— Да. Я думала, ты еще маленькая. Но похоже, ошибалась. И не только в этом.
Смерть матери оказалась ударом. И не только из-за своей внезапности. Во мне боролись самые разные чувства — горе, шок и еще кое-что, в чем не очень-то хотелось сознаваться: облегчение. После смерти матери сквозь тучу, всю жизнь висевшую надо мной, забрезжил какой-то свет. И хотя дом без нее опустел, помрачнел даже, но в тихих комнатах поселилось спокойствие. Такой вот побочный эффект.
Стояло лето, самая горячая пора для папы. Мне же заняться было абсолютно нечем, и после похорон Бев я несколько дней безвылазно проторчала у себя в комнате, единственном месте, где раньше чувствовала себя в безопасности и где теперь даже могла запереться. Кто запретит? Матери уже нет.
Не помню точно когда, но до меня вдруг дошло: а ведь сидеть в четырех стенах, да еще по собственной воле, совершенно необязательно. Можно пойти куда хочешь. Делать что хочешь. В четырнадцать лет от подобного открытия голова идет кругом.
Первая вылазка за пределы моей комнаты была недальней, но мир для меня перевернулся. Как-то раз я вошла в нашу допотопную гостиную, окинула взглядом царящий там пыльный беспорядок… Все выглядело ветхим, обтрепанным. Очертания предметов какие-то размытые. Я потерла глаза, поморгала — картина осталась прежней. По ковру, сплошь засыпанному крошками, я прошла к окну, отдернула тяжелые шторы. За окном сиял ослепительно яркий, словно отполированное стекло, день. Я даже зажмурилась.
Бев не любила открывать окна. Пришлось изрядно повозиться с проржавевшей щеколдой, пока она не поддалась со скрипучим вздохом. Я распахнула обе створки, и теплый сквозняк принялся хозяйничать в гостиной. Пробрался в каждую щель, выставляя напоказ все углы, забытые временем и матерью.
Остаток дня я драила гостиную. Налила в большое ведерко из-под мороженого теплой воды с мылом и дочиста отмыла стены. Выбила, вытерла и отволокла в столовую всю мебель, кроме тахты. Устала я до смерти, но была полна решимости. Когда комната опустела, я взялась за пылесос и не меньше часа чистила ковер, отскребла радиаторы и даже лопасти потолочного вентилятора не забыла. Потом принялась затаскивать мебель обратно. Только к вечеру я наконец остановилась и оглядела плоды своих трудов.
Гостиную было не узнать. Пыльное старье исчезло. Тяжелые гардины я сняла, оставив только легкую бамбуковую занавеску. И комната преобразилась. Новая комната в новом доме. В залитом солнцем пространстве не осталось и намека на мать. Как раз то, что нужно.
Отец вернулся еще засветло. Работы на стройплощадке было невпроворот, но после смерти Бев он из-за меня старался приходить пораньше. И мы в неловком молчании ужинали за большим столом в столовой. Каждый вечер кто-нибудь из прихожан нашей церкви приносил нам разную еду. Но будь то лазанья или тушеная курица, для меня все имело один вкус.
Я спокойно переносила довольно тоскливые вечера наедине с папой. Он возвращался усталый, сгорбленный, с набрякшими веками. И через силу поддерживал разговор. Но в тот день, когда я навела чистоту в гостиной, я ждала папу, сгорая от нетерпения. То-то он удивится и обрадуется, когда увидит! И наверняка поймет, что это означает, — что я готова жить дальше.
Вот и папина машина. Я спрыгнула с тахты, разгладила подушку, на которой сидела. Встала в самой середине комнаты, чтобы сразу увидеть папину реакцию, когда он поднимется по лестнице. Открылась и закрылась входная дверь. Звук тяжелых шагов. Я затаила дыхание.
Папа с лестничной площадки заглянул в гостиную и застыл.
— Что ты наделала! — Даже сквозь загар от всегдашней работы на солнце было видно, как побледнели его обветренные щеки.
— Я… я убралась, — пробормотала я. — И переставила все. Посмотри, нигде ни пятнышка.
Он, конечно, и сам все видел. Все было иначе. Абсолютно все.
— Что ты наделала! — повторил он, не слушая меня. — Где мамины журналы? Где наша семейная фотография?
— Все цело. Я только переложила на другое место. И выбросила кое-какое старье.
— Где плошка с песком, которая стояла у мамы на кофейном столике? — Папа бросился к отдраенному до блеска кофейному столику. — Где она?! Этот песок мама набрала в наш медовый месяц. И привезла в пластиковом пакете из самого Орегона!
— Там, на рабочем столе, — прошептала я, махнув рукой в сторону кухни. — Я не знала, куда его девать.
Папа скрылся на кухне и через секунду вернулся, сжимая в руках плошку с песком.
— Поставь на место! — яростно приказал папа. Я еще никогда не слышала, чтобы он говорил таким тоном. И так хлопнул плошкой о столик, что я подумала: сейчас стекло треснет.
— Я просто хотела…
— Стереть все воспоминания о своей матери? — резко перебил он меня. — Оглянись! Как будто ее здесь никогда и не было. А ты знаешь, зачем она развернула тахту именно под таким углом? Чтобы можно было смотреть телевизор лежа. А почему не любила открывать окна? Чтобы никто не лез в нашу жизнь!
Папа пересек комнату и со стуком захлопнул окно.
Я потрясенно молчала. Отец прежде никогда не кричал на меня. И его крик почему-то подействовал на меня совсем не так, как материна ругань. Может, мне до смерти надоело, что на меня орут. А может, чувствовала свою правоту после того, как целую вечность расчищала свой дом и свою душу. Так или иначе, когда папа повысил голос, я ответила тем же.
— Я все руки себе стерла, убираясь! — завопила я. — Это не дом, а свинарник!
Папа опешил, но не отступил, наоборот — поддал газу:
— Убирай, сколько хочешь, но вещи матери трогать не смей! Надо же иметь хоть каплю уважения.
— Уважения? — задохнулась я. — Я? Я должна ее уважать?
— Разумеется! Она твоя мать.
— Плохая мать!
Я уже рыдала. Не от обиды — от злости. Меня трясло. Столько лет терпеть издевательства и оскорбления! Разве это справедливо?
— Что ты себе позволяешь! Как у тебя язык поворачивается?!
— Пап, она ведь мучила меня. Сам знаешь.
Он покачал головой:
— Все матери и дочери ссорятся.
— Но не так, как мы.
— Твоя мать была удивительной женщиной.
— Алкоголичкой она была!
На самом деле я не очень понимала, что означает это слово. На похоронах услышала. Его часто повторяли вполголоса. А еще говорили, мама была «пьяной вдрызг», когда погибла, но папа не разрешил проводить какую-то «токсикологическую экспертизу». Непонятные слова плавали вокруг меня, словно обломки кораблекрушения, но по ним я худо-бедно могла догадаться о самом корабле.
Папа, должно быть, почувствовал мою неуверенность.
— Сама не понимаешь, что болтаешь, — процедил он. — Маме пришлось многое пережить. Она много страдала. И никто не имеет права осуждать ее. Особенно ты.
— Да не осуждаю я ее! — крикнула я. — Но ты должен признать правду.
— Какую правду?
Такой простой вопрос, но до меня вдруг дошло: как бы я ни старалась, папа никогда не изменит своего мнения о маме. Ему почему-то обязательно нужно было выгораживать ее. Он не желал видеть грязи в нашей жизни. Даже приукрашивал прошлое.
Какую правду? До сих пор я считала, что правда только одна: моя мать — злобная, бессердечная женщина. Но папа любил ее, потому что… просто любил, и все.
— Ладно, забудь, — прошептала я, обошла его и убежала бы к себе, но отец схватил меня за руку:
— Изволь все вернуть на свои места. Чтобы было, как раньше.

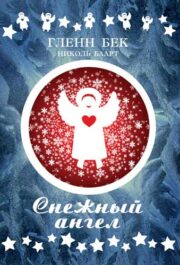
"Снежный ангел" отзывы
Отзывы читателей о книге "Снежный ангел". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Снежный ангел" друзьям в соцсетях.