— Тебе бы архитектором быть, — говорит Купер. — Ты ведь знал толк. Не всякий сумеет построить дом, а ты построил лучший.
Митча охватывает гордость, и почти сразу ее вытесняет внезапная мысль:
— Дом — это не только здание.
Мудрая мысль. Жаль, что он не понял этого раньше.
Купер поднимает голову и смотрит ему в глаза:
— Верно. Дом — это далеко не одни только стены.
Похоже, он ждет от Митча еще каких-то слов, но каких именно — Митч даже не представляет. И молча следует примеру Купера. Красные шашки — на черные квадраты. Но Купер поправляет: белые фишки для него, Митча.
Они начинают игру, и правила вспоминаются сами собой, как умение кататься на велосипеде. Митч съедает у Купера три шашки и становится хозяином положения на доске. Нехитрое, оказывается, дело. Он запускает руку в коробку с шахматами, перебирает фигуры, но они по-прежнему ничего не говорят ему — просто кусочки камня. И пробовать не стоит.
— Ты что-то грустный сегодня, — замечает Купер, когда Митч отодвигает коробку.
Довольно бесцеремонное замечание, но Купер, кажется, считает, что они с ним закадычные приятели. Ну да бог с ним, не стоит обижать единственного во всем зале человека, который уделил ему каплю внимания.
— Все никак вспомнить не могу, — признается Митч.
— А у нас у всех разве иначе? — Купер передвигает шашку в незащищенный угол доски. — Дамка!
Эх, зевнул!
— Нет, это другое, — качает головой Митч. — Другая какая-то забывчивость.
— Альцгеймер, — буднично роняет Купер.
— Это плохо?
— В общем — да, хорошего мало.
Митч на минуту задумывается.
— У меня память как швейцарский сыр — вся в дырках.
— Это ты хорошо сказал: швейцарский сыр! — хохочет Купер.
— Я прямо вкус чувствую, — продолжает Митч. — Швейцарского сыра, то есть. И почему вкус сыра я помню, а как играть в шахматы — нет?
— Ты никогда особо хорошо в шахматы не играл.
— Не играл?
— Нет. — Купер смотрит на Митча серьезными глазами. — Ты начал играть только потому, что твоя дочка в старших классах пошла в шахматный кружок. Тебе хотелось играть с ней. Помнишь?
Митч силится представить, как играет в шахматы с дочкой-подростком. Какого она была роста? А волосы — темные или светлые? А глаза какие — синие? Карие? Зеленые? Нет, не вспомнить. И сердце колет. Но в тот миг, когда он уже готов сдаться, она легко пробегает по самому краешку памяти.
Худенькая, симпатичная, большеглазая. И затравленный взгляд. Господи, до чего хочется вырвать ее из прошлого, обнять. Она выглядит такой загнанной, сломленной. Тем более что ему почему-то кажется, что он не часто обнимал ее, когда была возможность.
— Я был плохим отцом, — надтреснутым голосом произносит Митч.
Купер качает головой:
— Нет, не так.
— Я понятия не имел, как это — быть отцом. Особенно отцом дочери. Что я знал про маленьких девочек?
— Ну, к детям вообще-то инструкций не прилагается. Ты старался.
— Мало, видно, старался.
Митч борется со вспыхнувшим вдруг яростным желанием смахнуть шашки со стола. Заорать. Разбить что-нибудь. Да только к чему? У него дома частенько швыряли вещи, покоя это не приносило.
— Она была невеселой, верно?
— Это не твоя вина, — отвечает Купер, но это мало утешает. — Жизнь не всегда веселая.
— Моя жена… — Митч обрывает себя. Страшно договорить до конца. — Моя жена такое говорила и такое вытворяла…
— Вот видишь? — Купер вскидывает руки, будто это все объясняет. — Твоя жена! А не ты.
— Какая теперь разница, кто что делал?
Может, Митч не помнит своего адреса и как выглядела его дочь — тоже, но одно он знает наверное: есть грехи деянием, а есть грехи недеянием. Делал, не делал — не важно. Смотрел сквозь пальцы — значит, виноват. Себя прошлого он ненавидит, а себя нынешнего — не узнает. Прошлое — мутный коктейль чувств и обрывков воспоминаний, от которого в голове туман. Взять бы прожитые годы да разложить по порядку — как есть. Разложить и взглянуть на собственную жизнь. Какой она была? У него такое ощущение, что была его жизнь грандиозной неудачей.
— Я вижу ее, Купер. — Митч прижимает руку ко лбу, точно в попытке удержать зыбкий образ девочки. — Вижу, а тронуть не могу. Не могу выговорить слова, которые хочу сказать ей.
Купер не отзывается так долго, что Митч в конце концов поднимает на него взгляд. Лицо сидящего перед ним человека полно жалости. Или сочувствия.
— Что бы ты ей сказал, если б мог?
— Сказал бы, что виноват, — не задумываясь, отвечает Митч. — Что должен был заступаться за нее. — Митч смотрит в окно, на медленно опускающиеся крупные снежинки. — Сказал бы, что люблю ее.
Глава 7
Рэйчел
8 октября
Лили лежала на своей кровати с задернутым кружевным пологом. Глаза закрыты, но даже сквозь полупрозрачную ткань видно, что она не спит. Бедняга. Так расстроилась, где уж тут заснуть.
— У вас здесь не занято?
Не самая удачная шутка. Лили не отозвалась.
Не дожидаясь приглашения, я откинула легкую завесу и присела на край постели.
— Я знаю, ты не спишь.
— Нет, сплю. — Лили перекатилась на другой бок, подставив мне спину, свернулась в тугой клубок, из середины которого торчала голова плюшевого медведя. — Уходи.
— Никуда я не уйду, — прошептала я. Не знаю, может, я не то сказала, но тогда мне казалось, что ей нужны были именно эти слова: — Я с тобой, Лил. И всегда буду с тобой.
Долго мы с ней так просидели. Я гладила рукой бледно-лиловое одеяло, а Лили старательно сопела, делая вид, что не обращает на меня внимания. Словно единственный человек, которому стоит доверять, — это она сама. Разве можно ее винить? Я не всегда была с ней честна. Возможно, я ошибалась, полагая, что кое о чем лучше молчать.
— Я просто хотела уберечь тебя, — тихо начала я. — По себе знаю, что значит быть одной, когда некому защитить тебя от монстра под кроватью.
— Нет у меня под кроватью никакого монстра, — глухо пробурчала Лили в плюшевую медвежью шкуру.
Я ненатурально засмеялась:
— У меня под кроватью тоже не было никакого монстра. Это просто так говорят.
— Сама знаю. — Лили на мгновение замерла. Даже дышать перестала, явно решая, сказать или нет. И сказала: — Папа — монстр?
Что ей ответить? Да. И нет.
— У папы своеобразные представления о жизни, Лил. Это не значит, что он монстр, но иногда он делает страшные вещи.
— Ненавижу его!
Это было сказано с такой свирепостью, что я растерялась. До сих пор Лили проявляла не более чем вежливое безразличие к отцу. Сайрус мало занимался ею, когда та была маленькой, а когда Лили, подрастая, сама пробовала наладить отношения, то неизменно натыкалась на стену и со временем привыкла жить в доме, где папа — всего лишь финансовая опора. Он приносил домой деньги, каждый вечер за ужином сидел напротив нее, но делами ее почти не интересовался, и Лили научилась отвечать ему тем же. Она не была папиной дочкой. Но ненавидеть его у нее причин не было.
— Ничего подобного, — возразила я.
— Ненавижу! — Лили рывком села. — Он ударил тебя! Как он мог… как это вообще можно?..
— Все не так просто, как кажется. — Я ласково сжала ей руку. — Я тоже часто бывала не права. И потом, я уже не та женщина, на которой он когда-то женился.
— Как это? — Лили провела рукой по щеке, словно вытирая слезы, хотя глаза у нее были сухими.
Я криво усмехнулась.
— Хочешь — верь, хочешь — не верь, но твоя мамаша была когда-то довольно симпатичной девицей.
Лили даже рот открыла.
— Да ты что, мам? Ты же красавица! Все девчонки говорят. А мама Эмбер даже сказала, что папа женился на тебе, потому что ты была самой красивой по эту сторону Миссисипи.
— Вот именно — была. Теперь все в прошлом, Лил.
— Да ла-а-адно! Тебе всего тридцать один. — Лили заглянула мне в лицо: — Ты правда очень красивая, мам. Если папа думает по-другому, он просто слепой.
— Ты у меня добрая девочка. — Я похлопала ее по руке.
— Ты что, мне не веришь? — Недоумение Лили было искренним. — Точно, не веришь. Как же ты сама себя не видишь? Другие видят, а ты не видишь?
— Ну, хватит, — одернула я Лили. Не слишком строго, но та все равно отодвинулась. — Это глупо.
— Но я только хотела, чтобы ты знала, что…
— Лили, прекрати! Не имеет значения, как я выгляжу. Главное — это ты. Единственное, чего я хочу — и всегда хотела, — это чтобы ты была счастлива. Вот и старалась оградить тебя от… — Подыскивая нужные слова, я раскинула руки, словно собралась обхватить всю нашу поддельную жизнь. — От этого.
Изо всех сил прижав к себе медведя, — у того даже лапы вздулись как сосиски — Лили долго вглядывалась в меня. Я буквально видела, как бегут мысли в этих чистых глазах. Наконец решение было принято. Лили отложила медведя и протянула ко мне руки. Я сжала ее пальцы, а Лили сказала:
— Надо было мне рассказать. Я переживу.
— Но…
— Я хочу знать правду, — потребовала Лили.
— Ты не понимаешь, чего просишь.
— А вот и понимаю! — Глаза у Лили сузились. — Может, я еще маленькая, но я же не дура.
Она потянула за рукав моего свитера, на запястье открылись три желтые отметины от старых синяков. Сайрус всего-навсего схватил меня сильнее, чем рассчитывал, а в итоге осталась улика, которую приходилось прятать.
— Пустяки. — Я спустила рукав на место.
— Ладно. — Лили снова плюхнулась на постель, натянула одеяло до самого подбородка. — Уходи.
Я оказалась на распутье. Можно было продолжать делать вид, что все у нас в порядке; продолжать драить дом, который медленно, но неуклонно полз в пропасть. А можно было признать, что наша жизнь — только видимость, тонкая пленка улыбок и лжи. Глядя на маленькую, скорчившуюся под одеялом фигурку, я поняла: с враньем надо кончать. Иначе Лили перестанет мне верить. И тогда я ее потеряю.

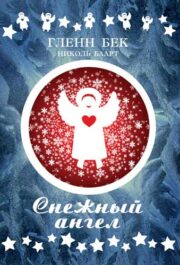
"Снежный ангел" отзывы
Отзывы читателей о книге "Снежный ангел". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Снежный ангел" друзьям в соцсетях.