Маркус обошел все свои владения и всюду встретил образцовый порядок и разумное ведение хозяйства, бережно сохранявшее производительные силы почвы. Исключение составляла мыза, казавшаяся заплатой на роскошном платье.
– Пока жива была старая госпожа, земля еще возделывалась, – сказал Петр Грибель Маркусу, – судья нередко сам ходил за плугом, да и у него был работник. Но потом судья одряхлел, работник сбежал следом за служанкой, так что о полевых работах не могло быть и речи, если бы не лесничий из княжеской рощи. Он родом из той местности, где прежде судья держал в аренде княжеское имение. В юности этот лесничий служил у судьи поденщиком и, кажется, очень привязан к старым господам. Все свободное от трудной службы время он проводит на пашнях мызы, и молоденькая служанка помогает ему, я сам видел!
Маркус еще ни разу не был на мызе!
Он намерен был исполнить последнюю волю прежней владелицы усадьбы, несмотря на то, что она была выражена на клочке бумаги и не подписана свидетелями. Но ему противно было вступать в личные переговоры с судьей и „гувернанткой“, поэтому он хотел устроить это дело письменно, по возвращении домой.
Маркус не тяготился одиночеством, которое ему пришлось испытать впервые. Он не был пресыщен жизнью, большой город с его шумом имел для него притягательную прелесть. Он всей душой отдавался наслаждениям, так как был молод, и горячая кровь кипела в его жилах. Однако он был рад отдыху в этой глуши после шумного зимнего сезона и усиленной работы на фабрике.
Любимым местопребыванием Маркуса в „Оленьей роще“ сделалась маленькая беседка, находившаяся в северо-западном углу тенистого сада. Беседка была восьмиугольной формы, имела два больших окна и две стеклянные двери, что открывало вид на все четыре стороны горизонта. Стены беседки были разрисованы по серому фону поблекшими цветами и плодами. Маленький диван в углу, круглый столик, несколько соломенных стульев и полка с книгами составляли всю ее меблировку. На окнах и дверях висели пурпуровые гардины, наполнявшие комнату каким-то магическим светом.
Дверь на западной стороне выходила на узенький балкон с деревянными перилами, откуда маленькая лесенка вела прямо в поле, что очень нравилось новому владельцу усадьбы.
На четвертый день своего приезда Маркус сидел утром в беседке и писал: он перенес сюда письменные и курительные принадлежности из библиотеки тетки и очень удобно устроился в маленькой комнатке. Он закурил сигару, и синие облака дыма заглушили запах ромашки и лаванды, которые утренний ветерок приносил сюда с огорода жены главного лесничего.
Маркус сидел против двери, из которой видна была дорога в усадьбу, пересекавшая прямой линией поля и потом исчезавшая в лесу. Лишь в одном месте от нее отделялась вправо узкая тропинка, пропадавшая в сосновой рощице, за которой находилась мыза.
На тропинке вдруг показалась женская фигура – служанка с мызы; на ней сегодня вместо ужасного платка, который Грибель называла „лошадиным наглазником“, была надета соломенная шляпа с широкими полями, закрывавшими лицо.
Она шла медленно, с опущенной головой; в левой руке она несла грабли, а правой захватывала на ходу колосья и пропускала их между пальцами. Вероятно, она собиралась сгребать сено, которое скосила несколько дней тому назад на отдаленном лугу.
Девушка рельефно обрисовывалась на светлом фоне ландшафта, залитого солнцем, и не подозревала, что служила предметом наблюдения господина, находившегося в беседке, мимо которой она должна была пройти.
Маркусу захотелось еще раз поговорить с девушкой, неохотно оказавшей ему помощь и резко отказавшейся от благодарности, и он подошел к двери.
Между тем девушка, дойдя до угла забора, остановилась, вынула из кармана письмо и, казалось, ждала, не появится ли кто из усадьбы, но нигде не было ни души. Тогда она пошла по лужайке, окаймлявшей усадьбу с западной стороны, намереваясь, очевидно, пробраться к помещениям и отыскать работницу или служащего.
Маркус быстро спустился с лестницы и вышел, загородив ей дорогу, и девушка так вздрогнула, точно земля расступилась перед нею, и с испуга уронила грабли на землю.
– Письмо, вероятно, адресовано кому-нибудь из живущих в усадьбе, давай, я его передам! – произнес он с улыбкой и протягивая руку к конверту.
Она молча подала ему письмо.
– Вот как, оно адресовано мне? – воскликнул Маркус, взглянув на конверт. – От кого? Не от твоего ли хозяина?
Девушка нагнулась, чтобы поднять грабли, и тихо сказала:
– Да, оно от судьи!
Маркус с улыбкой покачал головой.
– Однако, какой у старика изящный дамский почерк! – заметил он.
– Это не судья писал: у него болят глаза…
– Значит, он диктовал, а писала одна из его дам, и, как я предполагаю, госпожа гувернантка! – сказал Маркус, рассматривая написанный адрес. – Красивый почерк и бумага отличная, как и подобает даме, не желающей прикасаться ни к какой черной работе!
Девушка подняла голову, и Маркус готов был услышать резкий ответ, но тщетно, – она опять опустила голову и молчала.
– Ты, должно быть, очень привязана к своей госпоже? – спросил он, затягиваясь сигарой.
– Не думаю! – возразила она, и отступила на шаг, как бы желая избавиться от голубоватого дыма, окутавшего ее голову.
Смешно!
Эта девчонка, часто вдыхавшая запах махорки в общественных увеселительных заведениях своего класса, делала вид, что она не привыкла к дыму, и он ее беспокоит…
Вероятно, она копировала свою барышню – гувернантку, обладавшую нервами нежной дамы. Это разозлило Маркуса, и он нарочно пустил в нее пару густых колец дыма.
– Не думаешь? – медленно протянул он ее слова. – А я уверен, что ты почитаешь ее за высшее существо, и ты хотела бы очень быть такой же, как она!
– Это было бы странное желание…
– Почему же?… Ухаживать за своими руками и, сидя в прохладной комнате, пользоваться услугами других, – гораздо приятнее, чем ходить за сеном и жариться на солнце, исполняя тяжелые работы!
– Неужели вы думаете, что барышня не работает? – удивленно бросила она.
– О, нет, она, конечно, работает! – насмешливо возразил Маркус. – Я убежден, что она прилежно собирает полевые цветы руками, затянутыми в перчатки, и искусно составляет из них букеты. Она срисовывает их акварелью, вероятно, читает, пишет и с чрезвычайной аккуратностью упражняется на фортепиано, пунктуально разучивая пьесы, предназначенные для услаждения нервных людей!… Ну, разве это не так?
– Отчасти, да! – согласилась девушка, еще ниже надвигая на лоб шляпу, и Маркус успел увидеть при этом красивые, гибкие, но сильно загоревшие пальчики.
– Я уверен также, что она хорошо замечает, как ты убрала ее комнату и вытерла пыль, и удалось тебе жаркое или пирожное.
Из-под полей шляпы послышался смех.
– Я знаю только, что она редко бывает довольна мною! – решительно заявила девушка.
– Значит, ты не очень послушна, и твоя барышня допекает тебя за это?
– Нет, она больше упрекает меня за то, что у меня слово расходится с делом!
Маркус внимательно и с выражением удивления старался проникнуть сквозь шляпу девушки.
– У тебя слишком изысканный слог для девушки твоего класса! – заметил он.
Она вздрогнула и отодвинулась.
– Да, я забыл, что ты служила в городе в хорошем доме, где могла позаимствовать от господ… Твоя барышня привезла тебя с собой, вероятно, ты служила с нею в одном семействе?
Девушка отвернулась и ответила:
– Да, мы служили вместе в доме генерала фон Гузек во Франкфурте! Я всегда находилась при ней, была ее камеристкой, без которой избалованная барышня – гувернантка не может обойтись, и потому…
– И потому ты приехала с нею сюда разделить ее нищету! – воскликнул Маркус. – Ты удивительная девушка! Уверяешь, что совсем не привязана к своей госпоже, а сама готова за нее в огонь и в воду. Твоя барышня, должно быть, волшебница, сумевшая околдовать тебя! Скажи, она хороша собою?
Девушка склонилась над пучком колосьев, которые сжимала в руке, и пожала плечами.
– Трудно судить беспристрастно о близком человеке! – уклончиво проговорила она.
– Ты просто сфинкс! – воскликнул Маркус, подходя к ней. – Своими загадочными ответами ты можешь заставить меня интересоваться ею! – насмешливо улыбнулся он. – Впрочем, это напрасный труд, моя милая!… Самая лучшая из гувернанток не прельстит меня, и я постараюсь даже не встречаться с нею!… Но у меня есть огромное желание заглянуть в глаза ее „неразлучной“ тени!
И прежде, чем девушка успела опомниться, Маркус быстрым движением сдернул с ее головы шляпу, и в ту же минуту отступил в изумлении, – перед ним было лицо поразительной красоты!
Она с негодованием глянула на него, поспешно надвинула опять шляпу на лоб и бросилась бежать. Удалившись на приличное расстояние, она обернулась и голосом, дрожавшим от волнения, сказала:
– Вы насмехаетесь над гувернанткой, над ее умственными занятиями, а своим поступком сейчас доказали, как унижает в ваших глазах физический труд, которым занимаюсь я!
Круто повернувшись, она пошла вперед и через несколько минут скрылась из глаз Маркуса.
Гневно закусив губы, он швырнул сигару на землю и растерянно подумал, что сказала бы его мачеха, увидев его сейчас. Она всегда была недовольна тем, что он шутил и высмеивал барышень, собиравшихся у них. Он уверял мачеху, что не может решиться прикоснуться к „зашнурованным“ девицам даже в танце. И как бы теперь мачеха весело смеялась над глупым положением, в которое он себя поставил неуместной вольностью…
Находясь как в чаду, он думал о голосе девушки, звучавшем так странно и загадочно из-под шляпы!
Вернувшись на балкон, он захлопнул за собой стеклянную дверь и, мысленно браня себя, подошел к окну. Но почему он так волновался?!

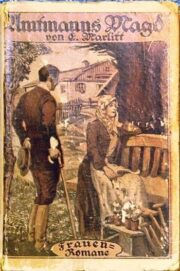
"Служанка арендатора" отзывы
Отзывы читателей о книге "Служанка арендатора". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Служанка арендатора" друзьям в соцсетях.