– Я с ним поговорю. С Санькой, – повторила Катя. – Как-нибудь обойдемся без подробностей. Но я не хочу, чтобы Алик вышел сухим из воды.
– А ему по-любому плохо будет. Даже если его отпустят… У него же долги? Значит, кредиторы наедут. Чеченцы опять же. Наверняка у них тут полно родни. Я же говорил, бросим его на съедение волкам.
Катя вспомнила, как жалко, унизительно перепугалась, когда Алик пришел и сказал, что Саньку похитили. Как мелко она засуетилась, как страшно и стыдно ей было к Герману идти, а вдруг он денег не даст.
– Давай, – согласилась она. – Бросим его на съедение волкам.
О, как это упоительно прозвучало! Пусть кто угодно ее осудит, она не испытывала ни капли жалости к Алику. Только одна мысль ее смущала:
– А твоя Изольда? Она не может вернуться и…
– Забудь о ней. Изольда сейчас объясняется со своим папочкой, и, поверь, ей очень несладко. Это ж его деньги на Кайманы уплыли, а он за копейку душу вынет.
– Но это же ты перевел деньги на Кайманы!
– А возвращать придется ей. Забудь. Давай лучше поговорим о нас. Ты так и не ответила: пойдешь за меня?
Катя в ответ заплакала. Герман еще крепче обнял ее плечи.
– Ты не понимаешь, – всхлипывала она. – Я невеста с «приданым». У меня сын.
– Ну и что? Нормальный пацан.
Но Катя покачала головой:
– Он весь в отца. «Не напрягаться». «Все по фиг». Вот такая нехитрая философия. Ты ведь еще не в курсе, Алик и его пристрастил к игре! Я не знаю, что с этим делать. Водку или наркотики я бы еще поняла: это химия. Идет какая-то реакция в организме. Можно ей противопоставить другую химию, провести детоксикацию, подождать, пока организм очистится сам и привыкнет жить без яда. А тут? Как радиация. Как в фильме у Ромма – помнишь «Девять дней одного года»? «Невидимо, неслышимо, ни цвета, ни запаха…»
Герман дал ей высказаться, выплеснуть все, слушал не прерывая. Заговорил, только когда она смолкла.
– Катя, тут тоже химия. Что-то вырабатывается: адреналин там, не знаю, серотонин, эндорфины… Что бы это ни было, мы будем бороться.
– Как? Как бороться? Привязать его к кровати? – Катя вздрогнула, вспомнив, как ее сын только что просидел целый день, прикованный к стене. – Хитрый стал. Уже дважды у бабушки деньги выманивал, у моей мамы. А теперь у тебя начнет просить.
– Ну, со мной где сядешь, там и слезешь…
– Я боюсь, он начнет воровать.
– У меня фиг своруешь, – улыбнулся в темноте Герман.
– А если не у тебя? Если он начнет воровать в магазинах, у прохожих на улице? Если грабить начнет?
Герман опять вспомнил Федю Коваленка.
– До этого не дойдет. У меня есть знакомая – психиатр. Очень хорошая… Да, ты ж ее тоже в театре видела! Этот театр – прямо Ноев ковчег. Всякой твари по паре. Это Данина бабушка. Давай к ней обратимся.
– Я не верю психиатрам, – горестно вздохнула Катя.
– Вот и Голощапов не верит. А зря, между прочим. Может, Изольду можно было… ну, не вылечить, так хоть купировать как-то ее психоз. Ладно, черт с ней, вспоминать не хочу. Но Софья Михайловна – очень толковая и знающая женщина. Мне она помогла.
– У тебя были проблемы с психикой?
– Да как тебе сказать? Не то чтобы проблемы, но кое-что было. Она помогла мне разобраться.
Герману не хотелось рассказывать ей об Азамате Асылмуратове. Даже теперь, когда все уже кончилось. Хватит с нее пока пережитого в гараже.
– Ладно, давай поговорим с ней, – уступила Катя.
– Вообще-то ему скоро в армию. Вот там и узнает, что почем.
– Ой, нет, я не хочу отдавать его в армию! – испугалась Катя. – Получить его назад в гробу? Инвалидом?
– Катя, ты преувеличиваешь, – начал было Герман, но она и слушать не стала.
– Давай не будем об этом. Я тебе так скажу: будь это – ну, например! – израильская армия, отдала бы я его служить с дорогой душой. Там люди делом заняты, каждый человек на счету, дедовщины нет, там и умереть… – Катин голос дрогнул, – не так обидно. Но наша армия… Я такого начиталась, наслушалась… По-моему, эта армия может сделать только уродом.
– Меня же не сделала.
– Верно, тебя не сделала. Но ты сильный, а он слабый. Спортом не занимается, книг не читает… Весь в отца. Он… он рассчитывает на меня, понимаешь? Если я отдам его в армию, он меня возненавидит. Будет считать, что я его предала. Вот если бы ты сам был командиром его части, – примирительно добавила Катя, – тогда да.
Герман не забыл, как высшие офицеры в Чечне спекулировали бензином, как продавали противнику оружие, а их жены почему-то оказывались ответственными за провиант, в то время как ему самому приходилось выкупать со склада то, чем его обязаны были снабжать бесплатно.
– Ладно, я им на гражданке займусь, – пообещал он. – Но если ты думаешь, что я на тебе не женюсь, потому что у тебя сын трудный… – И Герман выдал изобретенную когда-то формулу: – Взялся за гуж, не говори, что не муж!
Но Катя даже не улыбнулась.
– Это еще не все, – решилась она. – Все случая не было сказать. Я, кажется, беременна.
– От меня?
Катя сбросила его руку и отодвинулась.
– Я не встречаюсь с двумя зараз.
– Прости, опять глупость сморозил. Я, между прочим, так и подумал, когда ты отказалась ликер пить. – Герман восстановил статус-кво: вернул руку на прежнее место. – А почему «кажется»?
– Ну извини, времени не было пописать на полосочку. Я заподозрила как раз в тот день, когда ко мне твоя Изольда пожаловала.
– Не называй ее моей. Между прочим, она аборт сделала. От законного мужа. Больная на всю голову. Но теперь я думаю, что это, пожалуй, к лучшему. А ты? Тоже хочешь аборт сделать?
– Нет, конечно! Но я об этом думала, – призналась Катя. – Я была так зла на тебя! Вот и подумала… Мы с Аликом живем… жили, – поправилась она, – в двухкомнатной квартире. Когда дела шли в гору, я ему говорила: давай купим квартиру побольше. Давай купим квартиру сыну, будем сдавать, пока он маленький, она и окупится. Нет, сперва дачу, иномарку, пофорсить, пыль в глаза пустить…
Изумленный Герман впервые слышал в ее голосе чисто женские сварливые нотки. Ему не нравилось, что Катя говорит об Алике как о муже, но сами нотки понравились ужасно. Это звучало чертовски сексуально. Она и его будет так отчитывать? Вот здорово! Он уже чувствовал, что женат на ней лет двадцать. И это было классно.
– У моих родителей, – продолжала Катя, – трехкомнатная на Чистых Прудах, но они, слава богу, живы-здоровы. Куда мне с ребенком податься? Есть же еще Санька! Рано или поздно – я не сомневалась! – он оставил бы отца и прибился бы ко мне. И как нам впятером в трехкомнатной квартире жить?
– Выброси эти мысли из головы раз и навсегда, – суровым басом командира приказал Герман. – У тебя есть я. Катя, я так хочу ребенка! Родители мне уже холку прогрызли: когда ты нам внуков подаришь?
– Они знают, что ты женат?
– Папа знает, как выяснилось. В каком-то журнале случайно прочел. Маме не сказал. А мне сказал в тот самый день, когда я тебя привез. Тот же самый вопрос задал: а она знает, что ты женат? Короче, разводимся, женимся, рожаем детей.
Катя вдруг заплакала.
– Родители были против Алика… Они меня не ругали за Саньку, говорили, мы его сами воспитаем… Если бы я их послушала… если бы замуж не вышла за этого подонка… Может, Санька вырос бы совсем другим…
– И мы бы с тобой не встретились?! Ну, спасибо!
– Ладно, давай поженимся, – согласилась Катя. – А где мы жить будем?
– Не вопрос. Куплю квартиру побольше. Эту Саньке оставим. – Герман заглянул себе через плечо на спящего мальчика, и Катя тоже обернулась вместе с ним. – Он уже скоро начнет барышень водить.
– Дал бы бог, – вздохнула Катя. – Он ничем, кроме игр, не интересуется. Живет в виртуальном мире.
– Попробуем в реальный вытащить. Первым долгом, я думаю, надо ему зубы вставить.
Катя опять заплакала.
– В шестнадцать лет вставные зубы!
– Ничего страшного. У него какие зубы были – как у тебя?
– Нет, он весь в отца. У Алика передние зубы торчат и щель большая, и у Саньки тоже.
– Вот видишь? Со вставными лучше будет. Но прямо завтра вам с ним надо в милицию – показания давать. Надо бы сперва в травмпункт – зафиксировать побои. Да, и одежду ему купить, и ботинки, я все, что на нем было, выбросил. Ничего, не волнуйся, я сам с вами съезжу. А ты увольняйся с работы, – добавил Герман.
– Ты домостроевец? Алик все требовал, чтобы я дома сидела. Ты тоже хочешь?
– Нет, но из галереи придется уйти. Ты же понимаешь, там нельзя оставаться. Я хочу спать со своей женой. Причем хочу прямо сейчас. Пойдем, а? С ним ничего не случится. Проспит до утра.
– Пойдем.
Они как будто встретились после долгой разлуки. Разлука, пусть и недолгая, обоим показалась вечностью. Обнялись и утонули друг в друге, между их телами не осталось просветов, их качала и несла мощная волна, вздымала на гребень и швыряла вниз, а они упивались головокружительной качкой, длиной и силой сплетенных рук и ног. И можно было не предохраняться, ничего не бояться, все равно неизбежное уже случилось, новая жизнь уже жила в них, и они втроем помещались в ее большом и щедром теле – он, она и ребенок.
Рано утром позвонили из особняка Голощапова.
– Герман Густавович! – кричала в трубку плачущая экономка. – Аркадий Ильич умер!
– Как умер?!
– Вхожу в спальню, – всхлипывала экономка, – там никого. Постель не тронута. Пошла в кабинет – проверить. А он там, на диване сидит. Глаза открыты, а сам мертвый. Изольды Аркадьевны нету, уехала куда-то еще вечером поздно, вещи собрала и уехала. Водитель говорит, в аэропорт отвез.
И она разрыдалась в голос.
– Успокойтесь, Марья Семеновна, ради бога, успокойтесь. Скажите, он… – Герман хотел спросить «своей смертью умер?», но побоялся еще больше ее расстроить. – Вчера дома был кто-нибудь? Из посторонних?

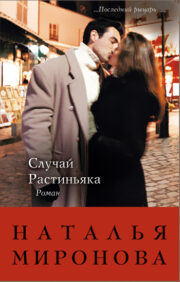
"Случай Растиньяка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Случай Растиньяка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Случай Растиньяка" друзьям в соцсетях.