Она сама удивилась звуку своего голоса и не узнала его, когда помимо желания стала ему отвечать. Говорила взрослая женщина, медленно и четко излагающая свои мысли:
– Все зависит от того, что называть любовью. Любовь Дэвида такая, что он любит даже мои ноги, а они некрасивые. Они распухают, становятся бесформенными, как два больших белых пудинга, но он снимает с меня туфли и чулки, когда я набегаюсь по магазинам. Он даже моет мне ноги в теплой воде с содой – ведь ты никогда не стал бы этого делать?
Они долго молчали. Ветер уносил звуки их тяжелого дыхания. Наконец он вымолвил:
– О чем ты? Я говорил о любви… – В его хриплом голосе слышалось замешательство.
– Любовь? – Ей захотелось грубо расхохотаться, и она испугалась самой себя. Грубость последовавших слов была не менее пугающей, но она произнесла их – безжалостные слова умудренной жизнью женщины: – Знаю я твою любовь! Ты содрал бы с меня одежду, а туфли не тронул бы. Знаю, не дура. Убери руки!
Ее опять затрясло. Она пыталась высвободиться, но тут раздался его голос – настойчивый, нежный, умоляющий:
– Не отвергай меня, Сара! И не бойся меня! Я ничего не сделаю, даже не попытаюсь, даю слово. Просто позволь мне иногда говорить с тобой, смотреть на тебя. Обещай мне хотя бы это. Говори со мной иногда, произноси добрые слова. Мне очень не хватает доброты. Ты не представляешь себе, что это значит – жить без доброты. А ты добрая. В первую же минуту, только увидев тебя, я разглядел, какое у тебя большое и доброе сердце. Ты такая большая, Сара! В тебе всего много. Большая и добрая…
Она возвращалась к действительности, а действительность означала страх – страх от возможности не устоять перед его мольбами. Она пролепетала, обращаясь больше к самой себе, чем к нему:
– Если я навлеку беду на свой дом, то наложу на себя руки. Я этого не вынесу. Ваша мать…
Упоминание о матери повлияло на него, как удар молотом. Он взорвался:
– Ради Бога! Я же говорил: не бойся мою мать! Вообще никого из них не бойся! Все-таки есть в тебе особенность, которая сводит меня с ума: я начинаю беситься, когда вижу, как ты перед ними гнешься. И еще когда выскочка Мэй смотрит на тебя сверху вниз…
– Мэй? – переспросила она, заикаясь. – Мэй смотрит на меня сверху вниз?
– Разве ты не замечала? А ведь она не годится тебе в подметки! Мэй – чопорная льдышка. В ней не больше женского, чем в нашем соседе Лесли Уотерсе, который сам не знает, какого он пола. Но винить за это ты должна только себя, свою проклятую приниженность и доброту. Вместо этого ты должна быть заносчивой гордячкой, потому что тебе есть чем гордиться. Ведь ты красива… Господи, как ты красива: лицо, тело, все… Ладно, успокойся, я молчу.
Она услышала собственное прерывистое дыхание и свист воздуха, который он втягивал и выпускал сквозь стиснутые зубы. Некоторое время они стояли, не произнося ни слова. Потом Джон спросил:
– Значит, договорились?
Еще немного помолчав, она спросила:
– Что ты имеешь в виду?
– Что ты не будешь меня игнорировать, не будешь отталкивать, превращать в пустое место. Я не стану ничего от тебя требовать, даю честное слово. Конечно, я был бы с тобой совсем не таким, если бы ты не принадлежала Дэвиду. Но жребий лег именно так – счастливчиком оказался Дэвид. Пошли.
Он бесцеремонно вытащил ее из-под навеса и проговорил:
– Перестань дрожать! Возьми себя в руки. Пошли.
И повел ее, держа под руку. Со стороны могло показаться, что она перебрала спиртного. Они пересекли пустырь и оказались на задах улицы Камелий. После длительного молчания она проговорила:
– Ты иди. Я сперва загляну к себе.
Он не проявил желания выпускать ее руку, и она вырвалась.
– Перестань, ради Бога! Не здесь! Мало ли кто может встретиться.
Он секунду-другую смотрел на ее профиль с опущенной головой, потом без лишних слов развернулся и зашагал прочь.
Она ждала на ветру, пока захлопнется дверь, а потом бросилась к себе в дом. В кухне она не стала зажигать газ, а упала на колени перед креслом Дэвида и, уронив на сиденье руки и ломая их, взвыла, глядя на тлеющие в камине угли:
– Дэвид, Дэвид, Дэвид!…
Потом она обняла кресло, словно это был сам Дэвид – добрый, нежный и любящий. В голове у нее звучало одно и то же: «Дэвид, Дэвид, Дэвид!» Она убеждала себя, что никто, кроме Дэвида, ей не нужен, что ей нужна только его любовь. Ничего другого, никакой любви Джона! Нет, только не это!
Она замерла, и ее тело снова пережило мгновение небывалого чувственного напряжения, когда она корчилась, из последних сил отражая натиск его плоти. Она опять боролась с ним, опять превращалась в дикарку, упивающуюся соприкосновением своего тела с его, предвкушающую неземной восторг, чувствуя и причиняя боль, рождающую смех, который прокатился бы по ним обоим, слившимся в одно существо…
Кресло покачнулось на ножках, и она спохватилась и замерла, постепенно возвращаясь к действительности.
Только сейчас поняла, что все это время, когда она предавалась сладостным воспоминаниям, из-за стены раздавалось пение. Глядя на камин, она сказала вслух:
– Ничего не могу поделать. Я не виновата.
Словно отвечая на ее призыв, прямо из стены возникла Мэри Хетерингтон с теми же словами, которые она произнесла в день ее замужества: «Смешанный брак дурен сам по себе, тем более гражданский… Остается уповать, чтобы из этого вышел хоть какой-то прок».
Потом к свекрови присоединился священник, отец О'Малли: «Я предупреждал тебя, что за смешанный брак придется поплатиться. Это только начало».
Раньше, думая о смешанном браке, она больше всего боялась загубить свою бессмертную душу, но теперь этот страх лишился смысла. Возможно, это случится, возможно, нет, в любом случае надо сначала умереть, чтобы это выяснить. Только что на нее свалилась куда более реальная напасть, которую можно буквально пощупать, и называлась напасть другой любовью.
– Нет, я его не люблю!
Она вскочила и громко повторила свой приговор. Потом зажала ладонью рот и уставилась в темноту, на стену. Тяжелый вздох всколыхнул все ее тело, и она обессиленно напомнила себе:
– Пора возвращаться.
Если она не поторопится, там начнут волноваться и задавать вопросы, а она должна пресечь любые подозрения. Ничего не случилось и не случится. Она уже сказала и готова повторить: лучше умереть, чем причинить зло Дэвиду. Ведь это он вытянул ее из болота. Пускай он для нее всего лишь соломинка – она готова держаться за эту соломинку всю жизнь. С возникшей этой ночью помехой, с этой животной дикостью она как-нибудь разберется. Она просто обязана это сделать. Сара расправила плечи, проглотила горькую слюну, облизнула сухие губы и, решительно взявшись за дверную ручку, вышла в ночь.
4
Сара тихо спустилась по лестнице и вошла в гостиную. Мэри Хетерингтон сидела в кресле у камина с закрытыми глазами. Когда Сара попыталась прокрасться мимо нее на цыпочках, она открыла глаза и сказала:
– Я не сплю.
– А я думала, вы задремали. Ничего удивительного, ведь вы так устали! Он уснул крепким сном, не то что раньше.
– Я заварила чай. Не откажи в любезности, налей себе и мне.
Сара налила две чашки и подала одну свекрови, а потом примостилась на углу стола, прихлебывая свой чай. Мэри сделала один глоток и, не отрывая глаза от чашки, заговорила:
– Сколько всего на нас навалилось! Сначала Новый год, потом три недели беготни! – Глядя на Сару, она добавила: – Ты молодец, Сара! Не знаю, что бы я без тебя делала. От Мэй очень мало проку в уходе за больными, и тяжести поднимать она слабовата.
– Конечно, я больше ее раза в два. Но все равно она прекрасно делает покупки, приносит лекарства.
Сара полагала, будто должна защищать Мэй. Состояние должницы ей не нравилось, и единственный доступный способ выхода из него заключался в том, чтобы поддерживать репутацию Мэй.
– Если бы Джон сейчас работал, мы бы наверняка не справились. У всего есть обратная сторона, не правда ли? Из него получилась отменная сиделка. Дэвид с отцом должны ходить на работу, хотя бы немного спать… – Мэри отхлебнула еще чаю. – Теперь худшее позади, но еще недавно мне казалось, что он не выкарабкается.
– И мне. – Сара покачала головой.
Она вообще не надеялась, что Дэн выживет. Простуда дала осложнение – двустороннюю пневмонию; был момент, когда смерть казалась неминуемой.
– Ох! – Мэри звякнула чашкой о блюдце, приподнялась в кресле, подалась к Саре со словами: – Я ужасно перед тобой провинилась, ты уж не серчай. Надеюсь, это не очень важно, но этим утром сюда заглядывал твой отец. Тебя как раз не было дома.
– Мой… отец? – Сара скорчила недоуменную гримасу. – Сюда? – Она изумленно разинула рот.
– Да, – негромко ответила Мэри. – Он вел себя очень прилично. Спросил, дома ли ты. Я ответила, что послала тебя за покупками. Он сказал, что очень сочувствует моему брату, и спросил, не может ли быть чем-нибудь полезен.
– Мой отец!
– Да, твой отец! Оставь свою мстительность. – Христианская незлобивость Мэри Хетерингтон пришлась сейчас очень кстати. – Казалось бы, мне не пристало учить тебя дочерней покорности, однако тебе не следует питать на его счет недобрые чувства. Это никогда не приводит к добру. Он вел себя безупречно и выглядел очень чистеньким и аккуратным.
– Он не сказал, зачем пожаловал?
– Увы, нет.
– Может быть, моей матери нездоровится?
– Вряд ли. Он сказал, что на прошлой неделе дважды стучался в вашу заднюю дверь, но без толку, и беспокоится о твоем здоровье.
Сара снова скорчила гримасу, но на сей раз ничего не сказала. Чтобы отчим явился с единственной целью ее проведать? Что у него на уме? Не иначе, попрошайничество. Теперь его пособие оставалось целехонько, однако он не был дураком и знал о теплых чувствах, существующих между матерью и ее дочерьми. Он никогда не просил у Сары денег, а просто забирал все, на что мог наложить лапу. С другой стороны, если хорошенько поразмыслить, стал бы он что-то у нее клянчить теперь? Сомнительно. Но все равно ей не терпелось узнать, что он задумал.

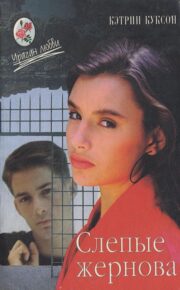
"Слепые жернова" отзывы
Отзывы читателей о книге "Слепые жернова". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Слепые жернова" друзьям в соцсетях.