А вот маму после его отъезда охватила настоящая тоска. Она часами сидела в одиночестве у себя в гостиной, что-то шила, выбирала шелк для вышивания или шерсть для гобеленов, раскладывая мотки по цветам и оттенкам, или расставляла по вазам цветы, срезанные для нее мною или кем-то из садовников, или наигрывала какие-то пьески на фортепьяно. Казалось, она совершенно поглощена этими маленькими скучными умениями истинной леди, созданными, на мой взгляд, исключительно для времяпрепровождения. Но, шила она или играла на фортепьяно, руки ее вдруг останавливались и безвольно падали на колени, а взор сам собой устремлялся за окно, где виднелось нежно-зеленое мощное плечо холма, но виделось ей всегда одно и то же: сияющее ласковой улыбкой лицо Гарри, ее единственного и любимого сына. Затем, тихонько вздохнув, она вновь опускала голову и принималась за работу или начинала наигрывать на фортепьяно одну и ту же знакомую мелодию.
Солнечные лучи, которые в саду или в лесу казались такими веселыми, вели себя совершенно безжалостно в маминой хорошенькой, выдержанной в пастельных тонах гостиной. Они словно обесцвечивали бледно-розовый ковер и золотистые мамины волосы, высвечивали на ее лице новые морщинки. И пока она грустила и блекла в тиши своей гостиной, мы с отцом объезжали поместье вдоль и поперек; мы болтали с арендаторами, сравнивая, высоко ли поднялись их хлеба по сравнению с нашими; смотрели, хорошо ли река Фенни вращает колеса нашей мельницы, и в итоге мне начинало казаться, что нам принадлежит весь мир и я должна проявлять интерес собственницы к каждому живому существу в нем, ибо и оно – тем или иным образом – тоже принадлежит нам.
Не было случая, чтобы я не знала, у кого в деревне родился еще один ребенок; обычно этот ребенок получал имя в честь кого-то из нас: Гарольд или Гарри – в честь моего отца и брата, и Беатрис – в честь моей матери и меня. А когда умирал кто-то из наших арендаторов, мы непременно помогали его родным с отъездом, если они собирались уезжать, или с наследованием его дела старшим сыном, если они решали остаться и дальше вести хозяйство все вместе. Мой отец, как и я, во всем следовавшая его примеру, знал каждую травинку на нашей земле – от сорняков, которыми заросла ферма ленивых Деллов (эта семейка собиралась искать нового хозяина и заключать с ним договор об аренде, когда истечет срок договора с нами), до выкрашенных белой краской столбиков изгороди на идеально ухоженной, прямо-таки вылизанной Домашней Ферме, где хозяйством занимались мы сами.
Ничего удивительного, что я чувствовала себя маленькой императрицей, разъезжая по нашей земле на наших лошадях вместе с отцом, самым крупным землевладельцем на сотни миль окрест. Отец ехал чуть впереди меня и кивал в знак приветствия каждому встречному, а те почтительно ему кланялись.
Бедный Гарри! Все это проходило мимо него. Он не понимал, какое это наслаждение – видеть нашу землю при свете дня в любое время года! Ему не доставляли удовольствия вспаханные поля, окаймленные полоской инея, хрусткой, как помадка, или колышущееся море пшеницы в жарком летнем мареве. Пока я верхом ездила по нашим владениям, как хозяйка рядом с хозяином этих земель, Гарри хандрил в школе и писал маме грустные письма, на которые она отвечала бесчисленными словами сочувствия, роняя слезы на исписанный бледно-голубыми чернилами листок.
Первый год пребывания Гарри в школе прошел ужасно – в страстной тоске по маме и ее тихой солнечной гостиной. Среди учеников существовало множество различных группировок, и в каждой были установлены свои свирепые законы племенной верности. Маленький Гарри, будучи новичком, подвергался запугиваниям и издевательствам со стороны не только всех этих группировок, но и каждого из детей, кто был хотя бы на дюйм выше ростом или хотя бы на месяц старше, чем он. Так что вплоть до начала следующего учебного года, когда на этой кровавой арене появились новые жертвы, в школьной жизни Гарри не было никаких положительных перемен. Второй год прошел спокойнее, а на третьем году обучения у него появилась поистине головокружительная возможность, считаясь почти старшеклассником, обрести и вполне определенное положение в мальчишеском обществе; его светлая улыбка херувима и ничуть не потускневшее очарование сделали его чуть ли не всеобщим любимцем, хотя временами проявления жестокости по отношению к нему все же случались. Все чаще и чаще он приезжал домой на каникулы с чемоданом, битком набитым всякими сластями – подарками старших мальчиков.
– Гарри пользуется такой популярностью! – с гордостью говорила мама.
И каждый раз Гарри взахлеб рассказывал мне о необычайном мужестве и храбрости вождя их «банды», как он ее называл. И о том, как каждую четверть они планируют военную кампанию против городских подмастерьев, а потом на марше проходят от школьных ворот до ручья, где и происходит победоносное, поистине эпическое сражение с этими парнями. А самый главный герой – это, разумеется, Стейвли, младший сын лорда Стейвли; он-то и являлся главарем их «банды», и ему удалось собрать вокруг себя самых сильных, самых злых и самых красивых мальчиков в школе.
Итак, Гарри вновь увлекся и школой, и новыми товарищами, но это лишь расширяло пропасть, и без того существовавшую меж нами. Он заразился надменно-самоуверенными, «мужскими» интонациями и манерами, столь свойственными школам для мальчиков и распространяющимися быстро, подобно инфекционному заболеванию, и теперь почти не снисходил до разговоров со мной, девчонкой, если не считать надоевших мне до слез рассказов об этом его полубоге Стейвли. С папой Гарри всегда был вежлив, и тот сперва даже гордился сыном, проявлявшим такой нескрываемый интерес к учебе. Но потом отца стало, пожалуй, даже раздражать то, что Гарри по-прежнему предпочитает дни напролет торчать в библиотеке, когда за открытыми окнами кричат кукушки и словно зовут тебя взять удочку и попытаться поймать хоть одного лосося.
А вот отношения Гарри с мамой совершенно не изменились; они с удовольствием вели долгие, непринужденные, интимно-дружеские беседы, вместе читали и писали в библиотеке и в гостиной. А мы с папой по-прежнему стремились на волю и, совершая все более дальние поездки, постоянно вели наблюдения за нашей землей в любое время года и при любой погоде. Гарри мог приезжать и уезжать сколь угодно часто, но все равно всегда оставался как бы гостем в родном доме. Он никогда и не испытывал такого чувства принадлежности к Широкому Долу, какое чуть ли не с рождения было свойственно мне. Собственно, основными и неизменными составляющими моей жизни были мой отец, моя земля и я сама. И эти три элемента существовали для меня нераздельно с того, самого первого раза, когда я увидела Широкий Дол во всей его чудесной целостности, сидя между ушами огромного отцовского гунтера. И мне казалось, что мы с папой всегда будем существовать здесь, на этой земле.
Глава вторая
– Просто не знаю, что я буду делать, когда ты уедешь, – как-то сказал мне папа. Сказал спокойно, самым обычным тоном, когда мы ехали к деревенскому кузнецу, чтобы подковать лошадей.
– Я никогда не уеду отсюда! – заявила я с неколебимой уверенностью. Я, собственно, слушала отца вполуха, потому что каждый из нас вел в поводу одного из тех могучих тяжеловозов, на которых обычно пахали поле. Папа-то легко с этим справлялся, сидя на своем высоченном жеребце, а моя изящная кобылка была этим рабочим конягам едва ли по плечо, и мне все время приходилось ее понукать или уговаривать, чтобы она не отставала от папиного коня.
– Да нет, когда-нибудь тебе наверняка придется уехать, – сказал папа, поглядывая поверх зеленой изгороди на то, как плуг, запряженный второй нашей парой тяжеловозов, переворачивает валы по-зимнему раскисшей земли. – Выйдешь замуж и уедешь к своему мужу. А может быть, ты станешь красавицей и будешь служить фрейлиной при дворе, хотя от нашего королевского двора мало что осталось – там одни немецкие уродины, которых в народе не зря называют «ганноверскими крысами»[5]. Но, так или иначе, ты окажешься далеко отсюда, и тебе уже не будет никакого дела до Широкого Дола.
Я рассмеялась, настолько нелепыми казались мне отцовские предположения о том, что ждет меня в будущем. Моя взрослость была еще так далеко, что ничто не могло поколебать во мне веры в наше триединство – моего отца, моей земли и меня.
– Я ни за что не выйду замуж, – сказала я. – Я останусь здесь и буду работать вместе с тобой, и я всегда, как и ты, буду заботиться о Широком Доле.
– Да, сейчас-то мы вместе с тобой о нем заботимся, – ласково сказал папа, – вот только потом, когда меня не станет, хозяином здесь будет Гарри, а я предпочел бы, чтобы ты стала хозяйкой своего собственного дома, а не жила здесь из милости, постоянно ссорясь с братом и его женой. И потом, Беатрис, это сейчас тебе нравится заниматься землей, хозяйством, а через несколько лет ты станешь девушкой и захочешь ездить на балы в красивых платьях. Кто же тогда станет присматривать за посевом озимых?
Я снова рассмеялась; я была исполнена детской уверенности, что хорошее никогда не кончается.
– Гарри тут ничего не знает, да и в хозяйстве он совсем не разбирается, – заявила я не допускающим возражений тоном. – Если у него спросить, что такое «шотгорн»[6], он решит, что речь идет о музыкальном инструменте. Да его здесь уже сто лет не было! Ну, по крайней мере, полгода! Он даже наших новых посадок не видел! Это ведь я придумала там деревья посадить, а ты взял и посадил! И, помнишь, тот человек, что их сажал, сказал, что я – настоящий маленький лесник, а ты еще пообещал сделать для меня кресло из этих деревьев, когда я стану старенькой леди! Гарри просто не может быть здесь хозяином! Его же здесь никогда не бывает!
Я все еще ничего не понимала. Я была еще совсем глупышкой. Хотя уже не раз видела, как старший сын в семье наследует ферму, а младший вынужден каждый день работать на чужих людей или вовсе уезжать из наших мест и где-то служить, чтобы собрать денег на свадьбу со своей терпеливой возлюбленной. Но я никогда не воспринимала этих людей как настоящих землевладельцев, сквайров, каковыми являлись мы.

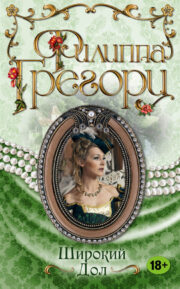
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.