Он был старше меня всего на год, но в товарищи по играм мне совершенно не годился. Он значительно превосходил меня и ростом, и весом – он вообще был ребенком довольно пухлым, – но если мне удавалось задразнить его настолько, что он все-таки вступал со мной в драку, я легко могла одержать над ним верх, и в итоге он начинал звать на помощь маму или няню. Впрочем, нрав у Гарри был на редкость спокойный и миролюбивый, ко мне он всегда относился очень доброжелательно и никогда не ябедничал маме, откуда у него тот или иной синяк или шишка. И он никогда сам меня не обижал и не задирал.
Но и не стал бы по собственной воле поднимать со мной шумную возню, или бороться, или даже играть со мной в безобидные прятки в многочисленных комнатах и на галереях нашего большого дома. Более всего Гарри любил сидеть с мамой в гостиной, с головой погрузившись в какую-нибудь книгу; иногда он играл для нее на фортепьяно небольшие вещицы или читал ей вслух какие-то ужасно мрачные, на мой взгляд, стихи. Но я за несколько часов такой жизни, столь любимой Гарри, страшно уставала и становилась совершенно больной. А уж проведя целый день в тихом и уютном обществе Гарри и мамы, я уставала гораздо больше, чем с раннего утра и до вечера объезжая с папой пастбища на холмах.
Если погода была слишком плохой и мне не разрешили отправиться на прогулку, я упрашивала Гарри поиграть со мной, но у нас, похоже, не находилось никаких общих забав. Пока я уныло слонялась по темной библиотеке, оживляясь лишь в том случае, если мне удавалось найти, скажем, родословную отцовских гунтеров, Гарри, собрав на широком подоконнике все подушки, какие только мог найти, устраивался среди них, как в гнезде, и сидел там часами, точно пухлый лесной голубь, – книга в одной руке, коробка конфет или засахаренных фруктов в другой. Его просто невозможно было сдвинуть с места. А если ветру вдруг удавалось разогнать тучи и в образовавшуюся прореху просачивались яркие солнечные лучи, Гарри уныло смотрел на мокрый сад и говорил: «Ну что ты, Беатрис, сегодня для прогулок слишком сыро. У тебя же сразу насквозь промокнут и туфельки, и чулочки, а мама потом будет тебя ругать».
В общем, Гарри оставался дома сосать свои конфеты, а я выбегала в сад и вихрем носилась по дорожкам розария, где на каждом листке, темном и блестящем, цвета рождественского падуба, висела капля дождя, такая соблазнительная, что ужасно хотелось тут же ее слизнуть. И в каждом цветке, свернувшемся и плотном, тоже сидела капля, сверкая, точно бриллиант на мягкой подушечке из лепестков, а когда я наклонялась над розой и вдыхала ее сладостный аромат, эта капля тут же попадала в нос, вызывая желание чихнуть. Если же снова начинался дождь, я легко могла найти убежище в небольшой белой беседке, находившейся в центре розария; я сидела там и слушала, как капли дождя шуршат по гравиевым дорожкам. Впрочем, чаще всего я просто не обращала на дождь внимания и уходила от дома все дальше и дальше – через залитый водой выгон, где паслись мокрые лошади, по тропинке в буковую рощу, и там под прикрытием мощных крон спускалась к речке Фенни, серебристой змейкой вьющейся через рощу и по краю луга.
Так что мы с Гарри, хоть и были очень близки по возрасту, все детство оставались чужими друг другу. И хотя в доме, где двое детей – один из которых сущий сорванец, – никогда не могла царить полная тишина, мне все-таки кажется, что жили мы очень тихо и уединенно. Брак наших родителей был заключен не по любви и не по сходству натур, а с прицелом на преумножение богатства, и даже нам, детям, было ясно – не говоря уж о слугах и жителях деревни, – что мать и отец откровенно раздражают друг друга. Мама находила отца слишком громким и вульгарным. А он часто, даже слишком часто, наносил истинное оскорбление ее тонкой, «городской», натуре, находившейся в плену самых разнообразных и сложных правил приличия, и нарочно пользовался в маминой гостиной своим тягучим сассекским выговором, нарочно хохотал слишком громко и «вульгарно» и дружески хлопал по спине гостей; впрочем, так он вел себя со всеми, кто жил в наших владениях, – от самого последнего бедняка до вполне зажиточного арендатора.
Мама считала, что ее изящные городские манеры должны служить примером всем в нашем графстве, однако у нас в деревне именно за это все ее презирали. Ее жеманство и надменный проход по центральному нефу церкви во время воскресной службы передразнивал каждый, кому не лень; с особым удовольствием упражнялись в этом остряки, собиравшееся в местной пивной «Под плющом».
Этот наш воскресный проход через всю церковь – мама шла с надменно поднятой головой, не глядя по сторонам, а рядом с ней вперевалку тащился толстый Гарри с изумленно вытаращенными глазами, – каждый раз заставлял меня краснеть от смущения. И лишь оказавшись в нашей фамильной ложе и спрятавшись за высокими спинками скамей, я могла немного расслабиться. Мама и Гарри тут же принимались истово молиться, уткнувшись лбом в сложенные руки, а я садилась поближе к отцу и засовывала ему в карман свою холодную ручонку.
И пока мама монотонным шепотом твердила слова молитвы, мои пальчики пробирались все глубже в отцовский карман и непременно находили там что-нибудь волшебное, свойственное одному лишь моему папочке. Складной нож, носовой платок, колос пшеницы или какой-нибудь «особенный» камешек, подаренный мною; для меня все эти предметы значили куда больше, чем церковные хлеб и вино, и были куда реальнее катехизиса.
А после службы мы с отцом еще долго болтались на церковном дворе, желая узнать разные деревенские новости и сплетни, тогда как мама и Гарри сразу же спешили сесть в карету, чтобы не слышать медлительного, тягучего деревенского говора, «дурацких» деревенских шуток, а также – опасаясь возможной инфекции.
Мать, конечно, предпринимала попытки как-то сблизиться с жителями деревни, однако она была совершенно лишена дара свободного и простого общения с теми, кого считала ниже себя. Когда она спрашивала у кого-то, как идут дела или когда должен родиться ребенок, то казалось, что на самом деле все это ей абсолютно безразлично (а я знала, что это действительно так и есть) и она находит жизнь этих людей на редкость убогой и скучной (да, именно так она и считала). Так что деревенские обычно что-то тупо бубнили ей в ответ и, наверное, казались ей полными идиотами; а женщины к тому же, разговаривая с «женой сквайра», непрерывно терзали фартук и надвигали поглубже домашний чепец.
– Нет, я просто не в силах понять, что ты в них находишь, – томно жаловалась она отцу после очередной своей неудачной попытки завязать разговор с деревенскими. – Право, они слишком близки к природе, какие-то они чересчур дикие!
Да, они были близки к природе. О нет, совсем не в том смысле, какой имела в виду моя мать: она-то считала их недоумками. Просто они были естественны и в своих делах, и в поступках, и в чувствах, и в способности говорить именно то, что думают. Они становились косноязычными и неловкими только в ее присутствии, из-за ее ледяного высокомерия. Что можно ответить даме, которая разговаривает с тобой, сидя в карете? Которая, глядя на тебя сверху вниз, со скучающим видом спрашивает, что ты нынче вечером подашь своему мужу на обед? Да, моя мать могла задать подобный вопрос, но ответ был ей совершенно неинтересен. А для обитателей нашей деревни, считавших, что о жизни Широкого Дола известно всем и каждому в Англии, тем более удивительным было, что жена их хозяина задает такой вопрос жене одного из самых ловких браконьеров (явно не подозревая об этом), а стало быть, правдивый ответ должен был бы звучать примерно так: «Одного из ваших фазанов, мэм».
И папа, и я, разумеется, все это знали. Но есть такие вещи, о которых нельзя просто рассказать, которым нельзя просто научить. Мама и Гарри жили в ином мире, где самым главным были слова. Они прочитывали массу книг, которые доставляли в дом целыми ящиками из лондонских книжных магазинов и библиотек. Мама писала длинные, полные сдержанного раздражения письма и рассылала их в разные города Англии – своим сестрам и братьям в Кембридж и в Лондон, своей тете в Бристоль. Всегда слова, слова, слова. Болтовня, сплетни, книги, игры, поэзия и даже песни, слова которых тоже сперва нужно выучить.
А в том мире, где жили мы с папой, слов требовалось очень немного. Мы оба чувствовали, как по спине бегут мурашки, если в небе во время сенокоса прогремит гром, грозящий ливнем; и тогда нам достаточно было кивнуть друг другу, и я тут же отправлялась на другой конец поля, а папа спешил на дальние поля, чтобы поторопить людей с закладыванием сена в скирды. А если в начале жатвы мы чуяли в воздухе запах дождя, то, не говоря ни слова, разворачивали своих коней и спешили объехать поля и остановить жнецов, не дать им срезать пшеницу до того, как начнется буря. Все это были очень важные вещи, но меня никто им не учил; я, казалось, знала их от рождения, потому что родилась и выросла в Широком Доле, и это действительно был мой мир.
А что касается «широкого мира», то, с моей точки зрения, он вообще вряд ли существовал. Мама, например, протягивая отцу какое-то письмо, говорила: «Как забавно…». И отец охотно кивал, соглашаясь: «Да, забавно», однако было видно, что все это ему совершенно неинтересно, если, конечно, не касается цен на пшеницу или на шерсть.
Мы, конечно, посещали некоторые, избранные, дома графства. Зимой родители принимали приглашения на званые вечера, а мама время от времени во-зила меня и Гарри в гости к детям наших соседей Хейверингов, чей дом находился милях в десяти от нас, или в Чичестер к супругам де Курси. Но в целом корни нашей жизни покоились глубоко в земле Широкого Дола, и она, эта жизнь, протекала спокойно и размеренно за стенами нашего обширного парка в почти полной изоляции от внешнего мира.
И мой отец, проведя целый день в седле на пастбищах или в поле, больше всего любил посидеть вечерком в розарии, дымя сигарой и глядя, как в жемчужного цвета небе загораются первые звезды и летучие мыши начинают, попискивая, сновать прямо над головой. Мама, взглянув на сидящего в саду отца, с коротким вздохом отворачивалась от окна и принималась снова писать свои длинные письма в Лондон или Бристоль. И в такие минуты даже я, совсем еще ребенок, понимала, как она несчастлива. Однако власть нашего отца, хозяина этого поместья, и власть самой земли Широкого Дола заставляли ее молчать.

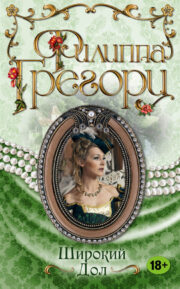
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.