Я громко закричала. Тот Ральф прошлой ночью был совершенно целым! Я хорошо помнила его твердые сильные ляжки, которые с таким наслаждением гладила руками. Но что было ниже колен? Этого я вспомнить не могла. Я тогда об этом не думала. Как только его крепкие и острые лисьи зубы впились в мою плоть, я больше уже ни о чем не думала, и только его имя звенело у меня в ушах, точно пожарный колокол. Еще я помнила, как жадно, отчаянно я вцепилась в его густые черные кудри.
– Ральф!
Я подошла к открытому, слегка поскрипывающему окну и выглянула наружу. Вдали по-прежнему виднелись высокие холмы. Меня охватила некая странная потребность, слепящая как молния и заставлявшая вместе со мной дрожать от нетерпения даже линию горизонта.
– Ральф!
Все пошло неправильно с тех пор, как я его потеряла.
Мне было больно. Но это была не та боль, с которой я проснулась, – не боль от укусов и ссадин в самых потайных и самых уязвимых местечках моего тела. Эта боль давно уже таилась у меня в груди, и я так долго жила с ней, что мне стало казаться, будто такова моя природа – мучиться, желая чего-то неисполнимого, и сгорать от страсти, не имеющей выхода, пока я не заболею, измученная этой страстью. Пока не стану тупой, усталой и каждое лето не станет для меня похожим на любое другое, а каждый мой план не окажется пустышкой. И все дороги будут вести меня в никуда, пока в моей жизни нет Ральфа. И вся моя жизнь так и будет связана с моей неистребимой потребностью присутствия в ней Ральфа, с моей неизменной, непрекращающейся страстной любовью к нему.
Но теперь, как говорят, он идет сюда.
Я знала, что и он испытывает ко мне точно такие же чувства. Я это точно знала. Знала не так, как знает такие вещи хорошенькая светская женщина, прекрасно знакомая с тактикой ухаживания, с обещаниями, которые легко нарушить, с ложью, которую ничего не стоит произнести. Я знала это, потому что мы с ним были двумя половинками капкана. Мы могли что-то поймать и защелкнуться, только сойдясь вместе. И даже тот, настоящий, со смертоносными зубами, капкан смог сломать ему только ноги, но так и не сломал того, что нас объединяло, меня и Ральфа. Ральф был мой, хоть я и пыталась его убить. Ральф был мой, хотя моими стараниями его тогда разрубило напополам столь же аккуратно, как я за столом разрезаю персик. Ральф был мой, даже если он пришел сюда для того, чтобы меня убить.
И я буду принадлежать только ему.
Рядом со мной вдруг звякнула болтающаяся створка окна, и я, разогнав окутавшую меня бесстрастную дымку размышлений, внимательно посмотрела в сторону подъездной аллеи. И мне показалось, что я вижу мерцание факелов, движущихся цепочкой в тени деревьев. Да, они приближались к дому. Но я оставалась совершенно спокойной. Ральф – или то был просто некий сон о Ральфе? – уже провел со мной ночь любви, и я сумела покончить со своими мучительными и страстными мечтами, со своим нелепым цеплянием за жизнь, с надеждой спастись от него. Я снова стала той юной Беатрис, которая никогда и ничего не боится.
Я повернулась к зеркалу над камином, освещенному вспышками молний, и, вытащив из волос шпильки, стряхнула с них пудру и позволила им рассыпаться по плечам и по спине великолепной, отливающей медью волной. Так носила волосы когда-то девочка из Широкого Дола, любившая играть в лесу с одним деревенским мальчиком. Я улыбнулась своему отражению. Если бы я была суеверна или во мне оставалась бы хоть капля рассудочности, мне бы, наверное, следовало сложить пальцы крестом, отгоняющим зло, опасаясь собственного колдовства – столь страшной была та улыбка, которую я увидела в зеркале. Мои глаза светились яркой зеленью, в которой не было ничего человеческого. Моя улыбка казалась улыбкой безумицы. Мое прекрасное бледное лицо казалось ликом падшего ангела, который ужинал с дьяволом и ложкой явно не пользовался. Я выглядела одновременно и как дьяволица, и как ангел Божий, но глаза мои были неестественно зелеными, как у кошки, как у змеи, и в сердце моем трепетала безумная радость. И далекие раскаты грома я воспринимала скорее как салют королеве, чем как предупреждение.
А гром грохотал все ближе.
И уже чувствовался в воздухе запах дождя, подул холодный ветер, добрый ветер, принесший прохладу с дальних лугов, где ночью пролился сильный дождь. И теперь этот очищающий дождь приближался ко мне, и я надеялась, что его крупные тяжелые капли смоют всю мою боль и смятение. Очистят от грязи это разрушенное гнездо.
Дождь подбирался все ближе ко мне.
И Ральф тоже.
Я уселась на подоконник; мое платье так и мерцало в бесконечно повторяющихся вспышках молний. То была ночь демонов. В сумеречном свете мелькнули несколько факелов и тут же исчезли за поворотом, а потом снова появились, уже перед самым домом. Да, Ральф скоро будет здесь. Молния снова вспыхнула, и я с подоконника стала смотреть туда, где на террасу открывалось широкое двустворчатое «французское» окно, больше похожее на стеклянную дверь. Отсюда мне было видно, как эти люди с факелами проходят последний поворот перед домом.
Огоньки их факелов двигались неровной цепочкой, подскакивая на ходу. Они уже подходили к крыльцу. В этот момент молния вновь расколола небо Широкого Дола пополам, раздался громкий треск грома, и я увидела его черных, как исчадие ада, собак – спаниеля и помесь колли с борзой. Псы вели себя именно так, как он когда-то научил их, гоняясь по лесу за браконьерами: один бежал впереди, другой позади, и оба внимательно поглядывали по сторонам, как настоящие разведчики. Крупный пес был впереди; его черная шкура блестела от дождя, который падал из низких темных туч, точно тяжелые черные стрелы с серебряным острием.
И тут я, наконец, увидела его.
Люди не лгали, когда рассказывали мне о нем. Его породистый конь действительно был очень высок и очень силен. И он был совершенно черный, без единого белого пятнышка. Черная грива, черная голова, черные глаза, черные ноздри. И очень, очень высокий. Крупнее даже, чем мой Тобермори. И в седле на нем восседал сам Браковщик. И он действительно сидел «очень странно», ибо вместо ног у него было два обрубка, кончавшиеся значительно выше колен. Но в седле он держался так уверенно, словно давно привык к своему увечью. Мало того, он сидел в седле с достоинством истинного лорда, одной рукой придерживая поводья, а вторую прижимая к бедру и что-то под ней пряча. Что это, я разглядеть не могла. Но это был Ральф, самый настоящий мой Ральф со своими черными кудрями, с которых скатывались капли дождя.
Вспыхнувшая молния залила все вокруг почти полуденным светом, и всем стало видно мое бледное лицо в оконном проеме. Собаки быстро обследовали террасу, словно вынюхивая ведьму, и большой пес безошибочно подошел к моему окну, остановился, поцарапал стену лапой и тоненько заскулил. Потом поднялся на задние лапы, передними царапая стену и громко лая.
Ральф повернул голову и увидел меня.
Его огромный конь взвился на дыбы и прыгнул прямо на террасу, словно это был поросший травой берег речки. И когда снова вспыхнула молния, я увидела лишь темный силуэт Ральфа верхом на коне, заслонивший все вокруг.
Я встала на подоконник, точно деревенская девчонка, собирающаяся незаметно выскользнуть из дома навстречу возлюбленному, настежь распахнула окно и шагнула наружу. Дождь шел стеной, мощные струи били в землю и, естественно, тут же ударили меня по спине и по голове так, что я даже охнула. В одну секунду я промокла насквозь, и мое шелковое платье облепило меня, как вторая кожа.
Спутники Ральфа остановились у него за спиной, настороженно наблюдая за мной. Зрелище было страшноватое. Шипели, затухая под дождем, факелы, казавшиеся совсем бледными на фоне ослепительных вспышек молнии. Я почти оглохла от перекатов грома, почти ослепла от яркого света молний, но не сводила глаз с лица Ральфа, с его знакомой улыбки, и подошла к нему, высоко подняв голову и почти доставая ею до морды его огромного коня. Молния снова расколола небо, и в ее свете ярко вспыхнуло лезвие ножа, который держал в руке Ральф. Это был тот самый нож, нож егеря, которым он легко перерезал горло загнанному оленю.
Я улыбнулась, и он увидел, как в резком голубом свете молнии блеснули мои глаза, и наклонился ко мне таким движением, словно сейчас поднимет меня к себе, обнимет крепко и будет вечно, вечно, вечно держать меня в объятиях…
– Ах, Ральф, – сказала я, и в этом возгласе прозвучала вся моя жизнь, полная страстной тоски по нему. И я протянула к нему руки.
Удар ножа был точно удар грома. И молния на этот раз показалась мне черной.
Эпилог
Фасадом своим усадьба Широкий Дол обращена к югу, и солнце весь день освещает желтые каменные стены дома, безжалостно высвечивая на них большие черные отметины палящего жара. Собственно, стоять остались только две стены, да еще уцелели почерневшие, обуглившиеся балки сгоревшей крыши.
Когда идет дождь, следы копоти стекают широкими черными мазками по медового цвета песчанику, а ветер разносит по саду мусор – бумаги Беатрис, ее любимую карту Широкого Дола, – и все это, пропитываясь водой, превращается в противные грязные комки.
Зимой, когда ночи становятся длиннее и темнее, жители местной деревни никогда даже близко к усадьбе не подходят. Мистер Гилби, лондонский купец, хочет выкупить поместье у овдовевшей леди Лейси, только все колеблется насчет цены; его пугает та репутация, которой пользуются здешние бедняки; считается, что они вполне способны на бунт. Впрочем, даже если он поместье и купит, ему все равно придется ждать до лета, чтобы заново все отстроить. А для этого ему надо будет привозить сюда работников из других графств – в Сассексе никто к дому Лейси даже не притронется. Тем более жители тамошней деревни; они до сих пор ни в лес, ни в парк Широкого Дола не ходят, хотя все старые тропы вновь для них открыты. Тело мисс Беатрис, присыпанное листьями, было найдено в маленькой ложбинке неподалеку от садовой калитки, в том самом месте, где она так любила прятаться в детстве. И теперь люди говорят, что она все бродит по лесу, все плачет, все горюет по своему брату, который умер в ту же ночь, что и она, потому что сердце его – слабое, как у матери, – не выдержало внезапного бегства из родного дома в Хейверинг-холл. И вот теперь мисс Беатрис все плачет, все ходит по Широкому Долу с пучком пшеницы в одной руке и горстью земли – в другой.

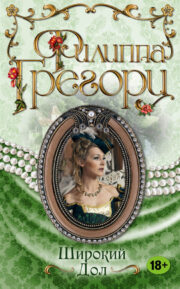
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.