– А мне кажется, что даже при современных методах хозяйствования выбор все-таки существует, – сказал Джон по-прежнему спокойно и холодно. Его поведение вообще вызывало во мне глухую ярость – он держался так, словно вел научный диспут в университетской аудитории. Я отошла к камину, оперлась одной рукой о каминную полку и молча наблюдала за ним. – Существует выбор между тем, что назвать самым важным в жизни – желание заработать как можно больше или попытку жить так, чтобы не причинять вреда другим людям и, может быть, даже сделать жизнь этих других людей чуточку лучше. Ты и Беатрис – прости меня, Гарри, – похоже, склонны получать прибыль любой ценой. И мне это определенно не нравится.
И Джон так посмотрел на Гарри и на меня, словно только что вскрыл ланцетом гниющую рану. От его слов я почувствовала себя грязной и мерзкой, но с нарочито подчеркнутым вздохом сказала:
– Ей-богу, Джон, для сына набоба твои моральные требования слишком высоки. А твои обвинения в адрес тех, кто стремится получить прибыль, звучат просто нелепо! Ты, конечно, можешь позволить себе роскошь угрызений совести, потому что всю грязную работу за тебя сделает кто-то другой; кто-то другой заработает для тебя и деньги, и благополучие. Ты с рождения являлся наследником огромного состояния, так что богатство тебе презирать довольно легко.
– У меня действительно было огромное состояние, – поправил он меня, блеснув глазами. – И тебе, Беатрис, лучше благословлять Бога за то, что я действительно презираю богатство. Потому что его у меня больше нет.
Селия вскочила и явно хотела выбежать из комнаты, потом взяла себя в руки и, повернувшись к Гарри, печально сказала:
– Все мы, похоже, говорим о разных вещах и даже ссоримся, а между тем дела в деревне идут все хуже и хуже. Гарри, я умоляю тебя: останови эту бесконечную погоню за прибылью! По крайней мере, дай этим несчастным беднякам возможность купить здесь зерно по приемлемой цене. Всем прекрасно известно, что скупать зерно по дороге к рынку, чтобы повысить цену, – это нехорошо. Ваш отец никогда этого не делал. И вы обещали, что никогда этого делать не будете. Прошу вас, умоляю: продайте жителям деревни какое-то количество пшеницы!
– Довольно, Селия! – сказал Гарри, полагаясь на уже испытанное оружие – громкоголосые, но пустые угрозы. – Ты что, пытаешься обвинить меня в том, что я нарушил данное отцу слово? Ты ставишь под сомнение мою честь?
– О нет! – воскликнула она. – Вот только…
– Все, хватит! – рявкнул Гарри, выходя из себя. – Беатрис ведет хозяйство так, как мы оба считаем нужным. И я на будущий год отправлюсь убирать урожай вместе со всеми, когда деревенские перестанут на нас дуться. И давай прекратим этот разговор.
Селия опустила глаза, и я заметила одинокую слезинку, подобно дождевой капле скатившуюся на серебряную крышку кофейника. Но больше она ничего не сказала. И Джон, лишь взглянув с сочувствием на ее поникшее лицо, тоже больше ничего говорить не стал. Я еще немного выждала, убедилась, что нам удалось-таки заставить их замолчать, а потом вернулась к себе в кабинет. Мне еще нужно было поработать.
Наконец-то перспектива вырисовывалась более светлая. Поля убирали гораздо быстрее, чем когда-либо раньше, и я каждый день выезжала туда, охваченная лихорадкой нетерпения, мечтая поскорее все закончить.
Но впереди я чувствовала не только возможность большой прибыли и освобождения от кредиторов, но и приближение грозы. В воздухе отчетливо чувствовалось какое-то неприятное покалывание, хотя небо по-прежнему было совершенно безоблачным, более ясного неба и представить себе было невозможно. И все же я чувствовала, как где-то за горизонтом собираются черные тучи. Собираются против меня.
Дни стояли жаркие. Жара была даже чрезмерной. Это была не та яркая первая жара начала лета, а жара душная, угрожающая. Шею Тобермори покрывали полосы засохшего пота, даже когда он стоял в тени, а зловредные мухи роями вились у него над головой. Люди, работавшие в полях, страдали от этой духоты безмерно, один из жнецов даже упал в обморок – это был Джо Смит, сын старого Джайлса. Причем упал он на редкость неудачно – прямо на свой серп. Ряд жнецов сразу рассыпался; люди бросились к нему, и я тоже подъехала поближе. Рана была нехорошая, почти до кости.
– Я пошлю за хирургом в Чичестер, – великодушно пообещала я. – Пусть Марджери Томпсон пока перевяжет рану, а я пошлю за доктором, и он ее зашьет.
Джо посмотрел на меня. Его лицо было белым от шока; темные глаза затуманила острая боль.
– Я бы предпочел, чтобы рану мне зашил доктор МакЭндрю, мисс Беатрис, – смущенно сказал он. – Если можно, конечно.
– В таком случае полезайте в повозку, – сказала я, внезапно раздражаясь, – и вас отвезут прямо в усадьбу. Надеюсь, ваш любимый доктор МакЭндрю сейчас дома. Если же его нет, если он отправился творить свои добрые дела в деревне, вы сможете посидеть на конюшенном дворе и подождать его. Надеюсь, вы не истечете кровью, пока его дожидаетесь.
И я, пришпорив Тобермори, резко развернулась и снова отъехала в облюбованную мной полоску тени у изгороди. Оттуда мне было видно, как люди помогают Джо сесть в повозку. Ему повезло: Джон был в саду и сразу увидел его, как только повозка въехала на конюшенный двор. Разумеется, он все сделал бесплатно и так умело, что Джо уже через два дня снова вышел в поле собирать колоски. Эта история послужила еще одним доказательством мастерства Джона. И еще одной причиной любви к нему всех этих людей. А у меня появился еще один враг.
Теперь я со всех сторон была окружена врагами. Я целый день работала в поле, где было полно мужчин, которые меня ненавидели, и женщин, которые меня боялись. А ночью лишь одна дверь отделяла меня от того человека, который желал моей смерти. И я, просыпаясь на рассвете, знала, что где-то там, в холмах, таится еще один мой страшный враг, который задумал погубить меня, который уже готов за мной прийти.
И природа, похоже, тоже меня ненавидела. Жара все держалась, и ветра не было совсем. Пшеничные стебли уже не звенели, когда их срезали серпом, а едва шуршали. И вокруг царила какая-то неестественная тишина. Мужчины не разговаривали; женщины не пели, и даже маленькие дети, помогавшие вязать снопы, говорили шепотом или молча играли поодаль, а когда я на Тобермори подъезжала к ним поближе, они в ужасе шарахались от меня, раскрывая в безмолвном крике рот и показывая черные гнилые зубы. А потом растворялись где-то за зеленой изгородью в гуще травы, точно больные лисята.
В такую жару даже птицы не пели. Можно было подумать, они примолкли, разделяя с Широким Долом его горе, усугубленное этим жутким пеклом. Лишь на рассвете, в зловещих отблесках зари, или в серых, исполненных тревоги, вечерних сумерках птицы принимались петь, но голоса их звучали, точно визг побитой собаки.
Да и солнечный свет казался мне иным, каким-то зловещим. Я уже готова была поверить, что меня и впрямь подводят мои глаза, да и все остальные органы чувств тоже, заставляя меня бояться грозы именно тогда, когда солнечная тихая погода мне отчаянно необходима. Но если я могла и не доверять покалыванию собственной кожи на вспотевшей спине и запаху влаги в тяжелом воздухе, то спутать с чем-то эту чрезмерную яркость неба было невозможно. Эта яркость резала глаза. Это был не тот густо-голубой с желтоватым отливом спокойный цвет августа, это была какая-то пронзительная голубизна, в глубине которой таилась темная болезненная сердцевина, придавая небу пурпурный оттенок. Солнце выглядело, как страшная кровавая рана, и утром открыв глаза, я каждый раз невольно вздрагивала, взглянув на него. Носить длинное, с многочисленными нижними юбками платье тоже было тяжело, и я с отвращением натягивала его на себя. Небо дышало жаром; земля под ногами была твердой, как железо; невыносимый зной вытянул из нее всю влагу. Река Фенни так обмелела и съежилась, что из окна моей спальни больше не было слышно ее журчания; а там, где она протекала через деревню, от нее несло помоями и навозом. Собственное тело тоже казалось мне совершенно обезвоженным и сухим, как прошлогодний листок, как пустая раковина, в которой давно уже умерло то маленькое влажное существо, что там обычно обитает.
Так что я постоянно торопила жнецов. Каждое утро я первой появлялась в поле и последней его покидала. Я погоняла жнецов, точно ленивую захудалую лошаденку, и они бы, наверно, готовы были начать брыкаться, если б осмелились. Но они не осмеливались. И стоило им остановиться, чтобы утереть пот со лба или смахнуть с глаз его разъедающие капли, как тут же раздавался мой окрик: «За работу, за работу! Не останавливаться!» И они снова со стоном хватались за серпы; ручки серпов были скользкими от пота и натирали мозоли даже на их привычных жестких ладонях. Жнецы даже шепотом не произносили ни слова, проклиная меня; у них попросту не хватало на это дыхания. Они работали так, словно их единственной целью было поскорее покончить с этой жуткой работой, убрать урожай и встретить зиму, которая принесет им голод, холод и быструю смерть.
А я сидела верхом на исходящем потом Тобермори, и лицо мое было бледным от напряжения; я смотрела на этих людей из-под полей шляпы, не затенявшей мне глаза, и понимала: то же страстное желание живет и в моей душе. Я смертельно устала. Устала без конца следить за несчастными жнецами и погонять их. Устала заставлять себя делать это. Устала от того внутреннего голоса, который уверенно, размеренно и твердо, как похоронный колокол, твердил мне: «Все напрасно. Напрасно. Напрасно». Но, похоже, даже эти слова уже не имели ни малейшего смысла.
Впрочем, жатва была почти закончена. Снопы стояли в полях, ожидая вывоза. Люди, хватая ртом воздух, бессильно падали на землю в безвоздушной тени под оградой. Женщины и старики, что вязали снопы, тоже почти закончили свою работу, но мужчины смотрели на своих согнутых в три погибели жен и престарелых родителей безжизненными, погасшими глазами, не имея сил им помочь.

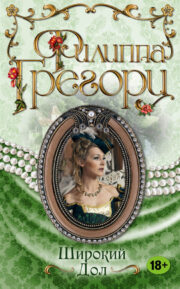
"Широкий Дол" отзывы
Отзывы читателей о книге "Широкий Дол". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Широкий Дол" друзьям в соцсетях.