Мы шли мимо больших, светящихся в темноте стеклянных клеток, в которых было остановлено время, в которых жизнь была представлена такой, какой она была миллиарды лет назад, когда по неостывшей еще планете в образе огромных самодовольных гадов ползали необузданные чешуйчатые инстинкты, когда не сыскать было на Земле ни крупинки разума, ни крупинки слабости, ни крупинки доброты и человечности.
В этих больших, светящихся в темноте стеклянных клетках было заключено неистребимо дремучее начало жизни, то самое начало, которое извечно сопротивлялось движению жизни вперед, которое, возникнув на Земле миллионы тысячелетий назад, так и не изменилось, так и дожило до наших дней в своей окаменевшей первозданности, на которое ничто не повлияло, которое ничто не сломило, которому ничто не помогло, которое осталось глухо к истории Земли и не пошло вперед ни по одному из многих путей развития жизни, которое было самым отсталым, самым косным, самым ничтожным, самым неподдающимся всеобщему закону изменения и улучшения, которое так и не сумело выпрямиться, подняться с земли, встать на ноги, которое так и осталось в жизни наиболее чешуйчатым, наиболее примитивным, наиболее инстинктивным и пресмыкающимся началом.
…Она остановилась около аквариума с черепахами. Желтый искусственный свет однообразно освещал сухое песчаное дно, по которому были разбросаны серые осколки булыжников. В одном месте эти булыжники, аккуратно расколотые пополам, были навалены кучей, и эта куча при ближайшем рассмотрении оказалась самими черепахами. Они беспорядочно валялись друг на друге — ленивые и жалкие в своих абсолютно не нужных им панцирях-веригах, и только одна, очевидно самая молодая и не успевшая еще пресытиться безбедным житьем под искусственным солнцем, покинула свою предающуюся неподвижной вакханалии «компанию» и подползла к переднему стеклу аквариума.
Напряженно вытягивая змеиную безволосую голову, черепаха стала медленно перебирать передними лапами по стеклу, пытаясь встать на задние, но тяжесть панциря потянула ее назад, и она опрокинулась и, упав на спину, отчаянно засучила беспомощно торчащими из-под панциря ногами.
Она вдруг резко отвернулась от витрины и в упор посмотрела на меня.
— Зачем ты сбил его вчера? — тихо спросила она.
Черепаха, лежа на спине, продолжала беспомощно шевелить ногами.
— Зачем ты сбил его вчера? — спросила она громче.
Черепахе удалось доползти на спине до ближайшего камня, она оперлась об него сначала боком, потом одной лапой, второй, но перевернуться и встать на ноги ей пока не удавалось, несмотря на все отчаянные усилия. Тяжесть костяного панциря неумолимо притягивала ее спиной к земле, заставляла корчиться, извиваться, мучиться.
— Зачем ты сбил его вчера? — спросила она очень громко, и в голосе ее мне послышалось не то удивление, не то страх, а может быть, и то и другое вместе.
Я молчал. Я был сегодня рядом с ней почти с шести часов утра. Она попросила меня сегодня утром приехать к метро «Динамо», туда, где совсем рядом жил он, — я приехал. Она попросила меня отвезти ее в ресторан — я отвез. Она захотела в кино — я пошел с ней в кино. Она захотела в зоопарк — я пошел в зоопарк. Я был с ней сегодня рядом почти целый день.
Я и сейчас стоял рядом с ней: всего в двух шагах. Но я молчал. Я мог быть с ней сегодня рядом целый день, целые сутки. Но разговаривать с ней я не мог.
— Зачем ты сбил его? Зачем? — вдруг закричала она и, прижав руки к груди, шагнула ко мне. — Почему ты молчишь? Почему?!
Я молчал.
И тогда она заплакала, закрыла лицо руками и, ссутулившись, сгорбившись, пошла в полумраке террариума к выходу, пошла вдоль светящихся в темноте стеклянных клеток, в которых были распяты на стенах неподвижные зубчатоголовые ящерицы, вдоль ярко освещенных желтым соломенным светом витрин, за которыми жили молодые неунывающие змеи и всякие другие земноводные и пресмыкающиеся со старательно выпученными, но ничего не понимающими глазами.
А перевернутая черепаха так и осталась лежать на спине, усталая и беспомощная, побежденная своим тяжелым костным панцирем, израсходовавшая весь запас своих скудных сил на то, чтобы встать, чтобы снова оказаться на ногах, но так ничего и не добившаяся.
Когда мы вышли из зоопарка, было уже совсем темно. Выпавший накануне ночью первый снег был уже весь затоптан и постепенно умирал под ногами прохожих. Хлюпала слякоть, в лужах дрожал оранжевый расплывчатый свет фонарей, и из-под колес проходивших мимо машин летели на тротуар фонтанчики грязной воды.
Она повернула направо, я пошел за ней, и мы медленно, не говоря опять друг другу ни слова, стали подниматься вверх по Большой Грузинской.
Навстречу нам, вдоль трамвайных путей, бежали мутные ручейки растаявшего снега. Люди шли, высоко поднимая ноги, обходя наспех собранные дворниками грязные сугробы, ругая изменчивую погоду и непостоянный климат.
Мы прошли Большую Грузинскую, свернули на Брестскую, пересекли площадь Белорусского вокзала. Мы шли молча, не говоря друг другу, как это было весь сегодняшний день, ни слова, думая каждый о своем. И только тогда, когда мы спустились с моста и оказались в правом скверике Ленинградского шоссе и она, не останавливаясь, пошла дальше, я понял, что она идет к стадиону «Динамо».
Я вышел вперед и загородил ей дорогу. Она остановилась и, не вынимая рук из карманов пальто, хмуро, почти враждебно посмотрела на меня.
— Куда ты идешь? — спросил я, не глядя на нее.
Она молчала.
— Куда ты идешь? — спросил я, все еще не глядя на нее, но чувствуя, как неудержимо тянет меня посмотреть ей прямо в глаза.
По обеим сторонам скверика неслись в разные стороны забрызганные мокрым снегом машины. Над площадью Белорусского вокзала вспыхивали и гасли красно-зеленые призывные рекламы:
«Пейте свежее жигулевское пиво!
Вызывайте такси на дом!
Покупайте горячие свиные сосиски!
Черноморское побережье — лучшее место для летнего отдыха!..»
— Куда ты идешь? — спросил я громко и посмотрел на нее.
И я увидел в ее глазах острую бородку-клинышек.
— Вечер вопросов без ответов, — сказала она и усмехнулась. — Пропусти меня, пожалуйста.
Я не сдвинулся с места. Она обошла меня и снова пошла в сторону стадиона «Динамо».
Я стоял, не оборачиваясь, спиной к ней. Над площадью Белорусского вокзала продолжали прыгать красно-зеленые буквы рекламы. «Пейте свежее жигулевское пиво…»
Ах, как все это замечательно! Выпил кружку свежего пива, закусил горячей сосиской, вызвал такси и поехал на черноморское побережье проводить летний отпуск…
Что же мне все-таки делать? Догонять ее? Плюнуть и уйти? Но я же люблю ее, люблю, а она идет к другому.
Я обернулся. Она уходила от меня по длинному аккуратному скверику между тяжелыми чугунными скамейками. Она приближалась к стадиону «Динамо». Наплевать. Пусть идет. Пусть идет к своему научному руководителю. Забыть ее. Навсегда забыть ее имя, ее глаза, волосы, фигуру, походку. Вырвать из памяти. Сжечь. Растоптать. Развеять.
Будь ты проклята. (Только не идти за ней.) Во веки веков. (Только не идти за ней.) Я никогда не вспомню о тебе, никогда даже не подумаю о тебе. (Только не идти за ней.) Ты еще пожалеешь об этом, ты еще будешь просить у меня прощения, еще будешь умолять меня. (Только не идти за ней.) Никогда я не пойду за тобой, никогда мне не нравились ни твое лицо, ни твоя фигура, ни твоя походка…
Я догнал ее. Она даже не взглянула на меня. Она быстро шла вперед, засунув руки в карманы пальто.
— Почему ты идешь к нему?
Она молчала.
— Почему ты идешь к нему?
Она молчала.
— Почему ты позвонила мне утром?
Она остановилась. Она посмотрела на меня. И я вдруг увидел, что она старше меня. На целых двенадцать лет. Весь день она была одного со мной возраста, а к вечеру она стала старше.
Вдруг я понял, что она целый день ждала от меня чего-то. Но чего? Зачем она позвонила мне? Может быть, она просто прощалась со мной и со всем тем, что было у нас?
— Я не пущу тебя! — сказал я.
— Дурак, — сказала она.
— Ты не пойдешь к нему! — сказал я.
— Дурак, — сказала она.
— Не пущу, слышишь?!
— Дурачок, — сказала она.
— Не пущу, — сказал я.
— Отойди, — сказала она.
Я знал, что мне нужно ударить ее. Именно сейчас. Но женщин нельзя, бить. Нельзя бить женщин, детей и животных. Так нас учили еще в школе.
— Наташа, не ходи к нему, — сказал я, первый раз за день называя ее по имени.
Она дотронулась указательным пальцем до пуговицы на моем пальто.
— Иди, — сказала она. — Я позвоню тебе…
И она опять ушла от меня по аккуратному скверику на Ленинградском шоссе между тяжелыми чугунными скамейками.
Я подождал немного, а потом, перейдя на другую сторону улицы, пошел следом за ней. Я старался идти так, чтобы она не увидела меня, но она так ни разу и не оглянулась за все время, пока шла до северных трибун стадиона «Динамо».
Потом она повернула направо, налево, снова направо. Я шел за ней следом и тоже поворачивал направо, налево и снова направо.
Она подошла к его дому, остановилась около его подъезда, подняла вверх голову и посмотрела на его окна.
В его окнах горел свет.
И так ни разу и не оглянувшись, она вошла в подъезд его дома.
Я слышал, как захлопнулись двери лифта, видел, как поднималась освещенная кабинка от одного темного окна к другому, слышал, как лифт остановился на третьем этаже, как она вышла, и как еще раз хлопнула железная дверь, и как, постояв несколько секунд на площадке, она позвонила около дверей его квартиры.
Щелкнул замок, дверь отворилась, кто-то что-то сказал, кто-то засмеялся, снова щелкнул замок, и входная дверь его квартиры закрылась. Захлопнулась.

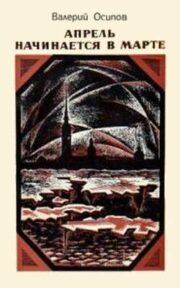
"Серебристый грибной дождь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Серебристый грибной дождь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Серебристый грибной дождь" друзьям в соцсетях.