Вадим взял сигареты и вышел на балкон. Там сушилась постиранная одежда, и он нервно сдвинул ее в сторону, чтобы не мешала. Две прищепки с треском слетели с веревок, на пол упала темно-синяя мужская рубашка. Вадим проводил ее злобным взглядом (так, словно этот клочок ткани стал последней каплей в его бедствиях) и вдруг изумленно замер. На этикетке у ворота красовалась надпись Baldessarini, и это была не его рубашка! Откуда, блин… Откуда у этого убогого брендовые шмотки?!
Вдруг до него дошло, Вадим расслабился и даже засмеялся: да, наверное, маман в секонд-хенде отрыла! Но рубашку все-таки в руки взял, покрутил, даже понюхал – разве что на зуб не попробовал. На заношенную вещь рубаха не походила. Тогда он начал срывать другие вещи, выискивая среди них мужские и все больше нервничая: джинсы Dolce Gabbana… Еще одна рубашка Baldessarini…
Он бросился в комнату, которую братья до сих пор делили на двоих. Тут оставались некоторые вещи Вадима, да и его диван, символизирующий ту самую «крышу над головой», которую семья могла ему предоставить при любых обстоятельствах, сложенный, стоял в углу. Но он, конечно, явился в бывшую «детскую» не для того, чтобы предаваться ностальгическим воспоминаниям. Он тут же начал лихорадочно выбрасывать из шкафа Серегину одежду. Свитера, рубашки, джинсы, туфли – таких дорогих шмоток не было даже у Вадима! Он притих, усевшись на кучу тряпок, и задумался. Черт, да откуда у Сереги деньги на это барахло? Он тут же вспомнил про десять тысяч долларов, которые брат отдал ему для погашения долга, и решил, что братец далеко не так прост, как кажется.
Но как, черт возьми, он эти бабки раздобыл? Может, у него какая-то баба при деньгах появилась? Другого объяснения внезапному братовому богатству Вадим придумать не смог и презрительно усмехнулся.
Он остановился посреди комнаты, задумался и внезапно понял, где может таиться ключ к этой странной ситуации: в письменном столе Сереги, нелепом центре нелепой братовой вселенной с самого его нелепого детства!
Методично выдвигая ящик за ящиком, просматривая бумаги, тетради, чеки, какие-то записки на отдельных листиках, Вадим был уверен, что скоро, очень скоро все раскроется. Кто-то же это сказал: «Все тайное становится явным!» Вот кто? Разбирая последний, нижний ящик, он уже спешил, его колотила нервная дрожь, и когда в руках оказался «Соглашение о сотрудничестве…», сначала он даже не понял, что все, что нужно, он уже нашел. Хотел уже отбросить к общей куче – он сбрасывал все, не представляющее интереса, в кучу посреди комнаты, прямо на ворох одежды – но взгляд зацепился за слова «являются пожизненной тайной», а ведь именно тайну-то он и искал!
Вадим взял документ, поднялся с пола, присел на край дивана и начала внимательно читать. А когда закончил, перечитал снова. И еще раз, и еще, пока не запомнил почти весь текст наизусть. Он еще толком не понимал, как распорядится этой бомбой – а Вадим был уверен на 100 процентов, что в руках у него именно бомба, как любят писать в газетах – информационная! Но был уверен, что находка полностью изменит его жизнь. Причем – в лучшую сторону. Да что там – в лучшую, теперь все, абсолютно все наладится; и не нужен ему больше никакой брат с его указаниями и одолжениями!
Нужен просто план – только и всего.
Задумчиво посмотрел на возвышающуюся в центре комнаты кучу одежды и бумаг, и решил оставить все, как есть: ну его к черту! Убирать он ничего не будет – слишком много чести. Разозлился, но быстро отошел и даже рассмеялся. Настроение резко улучшилось, и, перешагнув через кучу, Вадим решительно направился на кухню.
Он методично позаглядывал во все кухонные шкафчики в поисках кофе и радостно крякнул, обнаружив полпакета вкуснейшего Dallmayr – наверняка, маман балуется; уж в чем-чем, а хотя бы в хорошем кофе у нее всегда хватало ума себе не отказывать…
Нашел старенькую кофемолку, смолол пару ложек зерен и, с наслаждением вдыхая дивный аромат, сварил кофе.
И, удобно устроившись в дедовом кресле на балконе, прихлебывая вкусный, крепкий напиток, он, наконец, закурил – с таким наслаждением, которого, может, и не испытывал никогда в жизни.
– Нужно сделать контрольные снимки, тогда можно будет ответить точно – есть ли обратный процесс или же просто остановился рост опухоли. И тот, и другой результат – положительный, но первый, конечно, гораздо оптимистичнее, – Смирнов был серьезен. Он осознавал всю меру ответственности перед семьей, которая уже стала для него близкой. Роман с Верой, начавшийся так внезапно, теперь не давал шансов для отступления; и все же он, как врач, должен был быть максимально осторожным.
У него в кабинете сидели Аня, Вера Николаевна и Анина мама. Анжелика все время пыталась что-то сказать; и, наконец, вставила свой вопрос:
– Максим Леонидович… Может быть, есть смысл теперь сделать операцию?
– Я думал об этом, – закивал головой Смирнов. – Есть все шансы считать, что операция может пройти успешно. Но, повторюсь, нужны контрольные снимки. Так что давайте не будем тратить времени, делаем для начала МРТ.
– Спасибо, – произнесла Лика. Ей хотелось теперь быть все время рядом с дочерью, может, не столько ради самой Ани – хотя, разумеется, девочку она любила! – сколько чтобы показать Алексу, какая она на самом деле заботливая мать.
Женщины вышли гуськом из кабинета врача, и Лика обратилась к Вере Николаевне:
– Мама, ты поезжай; не будем же мы гурьбой ходить по кабинетам. Я сама буду с Аней.
– Хорошо, – легко согласилась Вера. Ее радовали перемены, происходящие с дочерью; и, хотя она не понимала их природу, Ликина забота явно шла на пользу Ане. Ведь раньше время для Ани было далеко на первом месте в ежедневном плотном расписании Анжелики: где-то между светскими раутами и посещением косметического салона.
Теперь Лика проявляла заботу изо всех сил, правда, в свойственной ей манере: записывала Аню, например, к стилисту из Франции, который дает уроки стиля «только для своих, и только один день», хотя Аня вообще не понимала, зачем нужна такая профессия и тем более – зачем платить ее представителям деньги!
И все же Ане нравилось, когда мама была рядом, особенно во время сложных процедур, когда ей совершенно не хотелось оставаться одной. Они словно проигрывали заново сценарий многолетней давности, когда Аня была маленькой девочкой и посещала врачей в сопровождении бабушки или няни.
Аппарат МРТ гудел долго и монотонно. Шевелиться было нельзя; у Ани отчаянно чесался нос, но она не смела ему помочь, и пыталась отвлечься с помощью совершенно посторонних мыслей. Но посторонние мысли не приходили, а приходили все самые «родные» и сокровенные: о Сереже. Но, собственно, для ее носа эти мысли были посторонними. Чесаться он, правда, не перестал, и первое, что она сделала, как только наступила блаженная тишина после выключения аппарата – яростно потерла нос рукой. Подошла мама и отметила:
– О, у тебя нос чешется! Выпьешь. Хорошо бы – шампанского, по случаю нашей победы, – и легонько сжала Анину кисть.
А через три часа, когда они забрали результаты исследования и показали снимки Смирнову, оказалось, что на самом деле есть повод пить шампанское.
Максим Леонидович долго рассматривал снимок, прикрепив его к светящейся изнутри специальной доске на стене своего кабинета; затем так же долго сравнивал его с предыдущими снимками. Аня с Ликой совершенно измаялись, сидя на жесткой кушетке в тишине кабинета, прерываемой лишь телефонными звонками да входящими то и дело пациентами. И с первыми, и со вторыми разбиралась медсестра, отвечая одинаково: «Максим Леонидович занят. Перезвоните (или зайдите) попозже».
Сам стоящий у доски Смирнов то довольно кивал головой, то смотрел в окно, что-то обдумывая, пока, наконец, не повернулся, сел за свой стол, поправил очки и торжественно произнес:
– Мы еще, конечно, провели не все исследования. Однако полагаю почти с полной уверенностью, что Ане можно делать операцию, и прогноз может оказаться самым благоприятным. Я рекомендую вам ехать за границу, в клинику доктора Хартмана – там лучшее в мире оборудование для таких вмешательств, я сам ему неоднократно ассистировал…
И Аня, и Лика его слушали – и не слушали. Все, что говорил врач, было деталями, несомненно – важными, но которые все равно не могли затмить главного: Аня будет жить.
Ольховский волновался, как никогда раньше. Позвонила жена и сообщила новости из клиники. Теперь он впервые за последние месяцы мог дышать, не испытывая боли где-то в глубине себя – не в сердце, нет. В центре его мира боль пульсировала постоянно, пока над единственной дочерью была страшная угроза скорой смерти. И лишь сейчас он смог вздохнуть свободно.
Предстояло отправить Аню на операцию в Германию, потом молиться, чтобы все прошло хорошо – и можно снова жить дальше, будто ничего и не было. Ни-че-го.
Связался с менеджером клиники, и обрадовался, узнав, что документы все готовы; что ради уникальной пациентки профессор Хартман специально отказался от уикенда, с таким трудом ранее выкроенного, и назначил операцию на десятое января. Вызвал секретаршу:
– Елена, нужны два билета в Мюнхен на послезавтра для моих жены и дочери. Они отправляются к профессору Хартману. Свяжитесь с Анжеликой, все устройте.
Можно ли уже начинать молиться?
Встречу с Сергеем Александр Петрович назначил в пафосном и невыносимо дорогом ресторане «Гедонист», куда ходили только депутаты и прочие олигархи. Ну, еще разве что звезды шоу-бизнеса просаживали здесь свои звездные гонорары после выступлений на закрытых вечеринках все у тех же депутатов-олигархов.
«Наверное, специально сюда позвал, чтобы максимально показать мою, так сказать, ничтожность», – усмехнулся про себя Сергей, подъезжая к заведению.
У «Гедониста» даже парковка была чрезвычайно пафосной: машину возле входа в ресторан встречал лакей в ливрее, брал у посетителя ключи и отгонял транспорт на положенное место. Серегина скромная (хотя и безупречно чистая – ведь не зря он перед встречей с Аниным отцом лихорадочно драил ее часа два до зеркального блеска!) «шкода» вызвала у лакея скептическую ухмылку. Но порядок есть порядок, и он нехотя взял ключи из рук Сергея. Тот отчаянно трусил, поэтому на лакеево презрение никак не отреагировал. На деревянных ногах поднялся по белой мраморной лестнице и толкнул входную дверь.

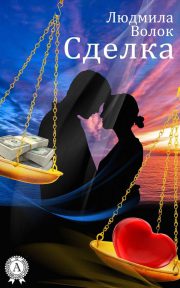
"Сделка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сделка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сделка" друзьям в соцсетях.