Вечером, когда Марина зажгла призывную лампу на балконе и поджидая Бориса села за фортепиано наигрывать любимые его мотивы из новейших опер, он долго не приходил, и русский самовар тщетно прождал его на столе. Послано к нему узнать, отчего он не идет, — его не было дома. Мариня догадалась, перестала играть и, грустно облокотясь, впала в глубокую задумчивость… Она спрашивала себя, долго ли еще продлится ее воскресшее счастье? Она чувствовала, что на него черным крылом повеяла ночная птица, предвозвестница зла и горя…
К одиннадцати часам пришел наконец Борис, расстроенный и грустный. Он извинялся в своем отсутствии визитом, который принужден был сделать приезжей барыне. Марина ни о чем не хотела расспрашивать. Расставаясь, он поцеловал ее руку неяснее и грустнее обыкновенного…
На другой день отходила почта в Россию: она робко ему о том напомнила; он ответил, что уже написал…
Дня через два, открывая ящик стола, чтоб достать какую-то книгу, она увидела незапечатанное письмо… Это было то самое, которое Борис в пароксизме любви и увлечения приготовил для матери своей, чтоб сказать ей, что он едет в Ниццу… Да! то самое письмо, в котором так пламенно сквозь завесу приличия и недоговоренных слов выразилось тогдашнее состояние его души, то самое, за которое она так неясно его благодарила. Письмо не отослано! Стало быть, вместо него написано другое?.. Стало быть, он переменил свои намерения?.. Ужели он с нею не поедет?..
Ее кольнуло в сердце… Знакомая боль, боль прежних мучительных дней борьбы и сомнения, опять вгрызлась ей в грудь…
Однако она продолжала заниматься сборами в Ниццу, и он помогал ей, как бы готовясь тоже с нею в путь.
Но через три недели приехал неожиданно Вейссе. Его прислали за Борисом, которому он привез письма и приказания от матери. И без того взволнованная его отсутствием, она уже находила, что двум из дочерей ее необходимы воды, и решилась ехать с ними на пароходе в Штетин, чтоб оттуда направить дальнейшие свои действия. Письмо приятельницы, полученное из Гейдельберга, ускорило ее отъезд, еще более убедив ее в необходимости скорее добыть сына, во что бы то ни стало, и она отправилась, послав вперед Вейссе с наказом уговорить Бориса. Ему представляли все неудобства и трудности путешествия нескольких женщин, совершенно одних, без покровителя, и во имя всех обязанностей сына и брата его вызывали в Вену, где его должны были дожидаться, чтоб ехать далее под его попечением. Что было делать Борису?..
Он покорился своей судьбе!.. Находя перед собою давнишнее ярмо своей молодости, он смиренно склонил выю и возвратился под семейную власть.
Вместо Ниццы он уехал в Вену!
Марина не плакала, не удерживала, не упрашивала его. Этот последний удар оглушил ее душу и ум. Ей казалось, что жизнь ее прекратилась вместе с прекрасным сном, так нечаянно разрушенным… Тщетно отчаянный Борис умолял ее не огорчаться; тщетно обещал он возвратиться к ней, как скоро довезет куда-нибудь на зиму мать и сестер своих. Она сомнительно качала головою и не отвечала. Он предлагал ей тоже переменить свой маршрут и, вместо Ниццы, ехать в Венецию, куда он брался силою или обманом направить и заманить свой караван. Ни за что в мире не согласилась бы Марина на эту встречу: как можно было ей допустить, чтоб Ухманские имели право потом разглашать, что она насильно за ними следовала и навязывала свое присутствие Борису?.. А она была выучена предвидеть все выдумки, на которые они против нее способны!
— Нет, Борис! — говорила она упорно, — в Ницце мы должны были провести зиму вместе, а поеду я одна! Пусть будет, что Богу угодно.
По крайней мере, она согласилась, чтоб Вейссе проводил ее вместо Бориса. В одно утро оба экипажа были подвезены к одному крыльцу — и разъехались, увозя в разные, противоположные стороны два сердца, которые вечно бились бы радостно друг подле друга, если бы люди их не разлучали…
Борис долго провожал карету Марины своими взглядами, слезами и благословениями. Он крестил издали исчезающее лицо своей возлюбленной; сердце его сжималось невыразимою тоскою… ему казалось, что он прощается с нею более чем на долго, навсегда, и это предчувствие было для него невыносимо.
Пожалейте о нем! он, право, был очень несчастлив в эту минуту… Быть может, несчастнее ее! Несчастнее ее, которая ничего не чувствовала от избытка столь многих, столь различных мучительных чувств. Для души человеческой есть известный предел страдания, за которым начинается оцепенение: Марина его достигала!
IX. Ницца
Об одном просила только Марина, когда ее везли из Гейдельберга, — это миновать сколько возможно все перепутья и места, где она могла бы встретиться с Ухманскими. Для того надо было не заезжать в Швейцарию, оставить в стороне и Комское озеро, и Лаго-Маджиоре с знаменитыми Борромейскими островами, не видеть Милана, — словом, избегать лучшие города и ближайшую дорогу, продолжая и затрудняя многим и без того длинное путешествие. Но ей было все равно: ничто ее уже более не манило и не привлекало в обетованный край ее желаний; без него Италия становилась для нее Лапландией, и при мысли, что в Италию поедут Ухманские, ее схватывала лихорадка. Едва могли ее уговорить заехать в Геную, где те, конечно, не успели бы ее застигнуть. С равнодушием въезжала она в эту дивную Геную, царицу Средиземного моря; было уж поздно, ночь скрывала от ее взоров картину мраморного города, купающегося в бирюзовом море и пенистых волнах, разбивающихся у подножья скал, увенчанных дворцами и садами; ничего нельзя было различить, только один маяк горел высоко и уединенно на недосягаемой башне. Все было мрачно, пусто и мертво, как в этой больной душе. Но на другой день, когда румяное утро чудно осветило всю окрестность, когда солнце обильными лучами озолотило дворцы, церкви, куполы красивых зданий, когда мачты кораблей, густые, как лес, распустили свои белые паруса и чайками понеслись по осеребренному заливу, когда город проснулся, засуетился, заговорил, запел этим итальянским языком, столь музыкальным, что он и без мелодии ласкает слух, как гимн любви и радости; когда, стоя у окна высокой гостиницы, наша путешественница взглянула на все это торжество природы и искусства, на весь этот блеск, на всю эту прелесть и роскошь жизни, сердце в ней проснулось и дрогнуло, собственное горе сильнее затрепетало от разительной противоположности того, что она видела, с тем, что она чувствовала, и обильные слезы ручьями полились из глаз ее. В первый раз плакала она с тех пор, как рассталась с тем, кто был для нее жизнью; и теперь, при виде дивной жизни, ее окружавшей, она как будто вдруг ощутила вполне свою потерю… Жизни, жизни легкой, беззаботной, Богом данной молодой жизни громко запросило это очнувшееся сердце, вопия на участь свою… Долго, упорно, горько плакала она… Долго раздавались в безмолвной комнате ее незаглушаемые рыданья. Никто ей не мешал — и тем лучше было для нее. Спутники ее, думая, что она покоится глубоким сном усталости, не тревожили ее, и она свободно предавалась всей власти своих воспоминаний и сожалений. То была ее последняя борьба, последнее восстание страсти и силы против сокрушающего горя… С тех пор она опять казалась покорною своей судьбе. Чрезвычайная горесть тем хороша, что она или убивает, или каменит. То и другое прекращает страданье!
Марина согласилась на просьбы Вейссе, осмотрела все достопримечательности Генуи, дозволила возить себя по всем церквам, по знаменитым картинным галереям, по богатым, но пустым жилищам стародавних Дорий, Дураццов и Паллавинченов, которых предки носили золотую мантию и однорогую шапку дожей, торговали с полумиром и ходили войною с непобедимыми галерами своими то на Турку, то на Барбарийских корсаров. Она обошла те мраморные палаты, наполненные сокровищами живописи и собранием всех возможных редкостей резного искусства, еще дышащие воспоминаниями прежнего времени и прежних жильцов, славных и гостеприимных. Она гуляла по террасам, обращенным в висячие сады, откуда померанцевые и лимонные деревья сыплют на прохожих снежный дождь своих цветов и упоительную негу их благоухания. Все ее удивляло и занимало, но ничто не развеселяло; любуясь, она погружалась все более и более в безмолвные думы, в тихую, но неразвлекаемую тоску. Ее увезли; опять явилась дорожная карета, опять путешествие утомляло и истощало последние силы ее: она не жаловалась. Нет и не может быть ничего в мире очаровательнее той дороги, по которой теперь ехали выходцы северных стран. Все время, в продолжение четырех дней, от Генуи до Ниццы, широкая мощеная стезя Корниши не покидает окраины моря, и на каждом шагу, на каждом повороте возникает новая восхитительная картина. Слева море, справа высокие горы и скалы, иногда крутые отвесы, у которых порох и взрывы отняли место, нужное для шоссе, по которому едва разъедутся две кареты. Иногда дорога висит над морем, как над пропастью. С одной стороны неизмеримая крутизна, отделяющая, по-видимому, путника от остальной вселенной и грозящая задавить его под внезапным обрывом тяжелых отломков, тогда как с другой стороны такая же крутизна отделяет его от моря, шумящего и бьющегося глубоко внизу, будто готового принять в свое лоно и поглотить весь поезд при малейшей неосторожности почтальона, при малейшем неверном движении одной из лошадей. Оступись только одна из них, и все рухнется неминуемо в бездонную пучину! А между тем она так обольстительно стелется перед глазами во всем великолепии своей вечной, но разнообразной красоты; она, кажется, манит вас коварно и глухими рокотаньями, страстным ропотом своих волн рассказывает вам какую-то чудную, тревожную быль, жалуется вам на какое-то таинственное горе… Не глядите слишком пристально на него, на это заманчивое море: если вы в открытом экипаже, не высовывайтесь из него! как раз, это море притянет вас неотразимо — головокружение охватит все ваши силы и вы броситесь или упадете в него в одно мгновенье. Abyssus abyssum invocat![15] Морская бездна магнетизирует бездну мысли человеческой; обаяние одной всевластно над другою, и когда Гёте так просто, но сильно рассказал в песенке о рыбаке, которого будто бы незримая сирена притянула, и увлекла с собою в морские волны, великий поэт описывал только иносказательно физическое явление, очень обыкновенное. Далее цепь гор прерывается и уступами сходится с дорогою, тогда как берег тоже постепенно понижается, и вот уж вы едете совершенно у моря, которого волны лижут окраины земли и обшивают ее серебряно-жемчужною бахромою своих пенистых отливов и приливов. Иногда свежие брызги долетают до вас и веют вам в лицо укрепительною влагою; иногда идущие валы докатятся до середины дороги и с веселым плеском разобьются на ней, орошая колеса вашей кареты и ноги уставших лошадей. И по сторонам этой несравненной дороги вы встречаете то городок, купающийся в волнах, то монастырь или церковь на горе, то мраморный дворец, окруженный садами, то скромный и уютный казино, улыбающийся среди виноградников и маслин. Все это волшебно, восхитительно. Беспрестанно хочется велеть остановиться лошадям, чтоб выйти из дорожного экипажа и поселиться тут, погостить в одном из этих жилищ, неравных по наружности, но равно полных тишины и относительной прелести. Но если таково влияние путешествия и местности на обыкновенных проезжих, спокойных или почти таких, то какое же впечатление должны были произвести дивнокартинные виды на бедную женщину, больную и грустную, на жертву одной из тех сердечных болезней, которые изнуряют жизненные силы, не лишая, однако, воображение способности разгораться и восторгаться для всего прекрасного и высокого, могущего его воспламенить?.. Марина глядела и горько улыбалась, думая, как все это показалось бы ей пленительно, если б ей дали совершить путь так, как она предполагала, вместе с Борисом, сидя возле него и деля с ним свое наслаждение. Всего более поразил ее небольшой кастелло, в виде крепости, построенный на полуострове и выступавший совершенно в море; он стоял гордо и высоко на скале, которая только одним краем своим придерживалась земли. Зубчатые башенки и плоская кровля, служащая террасой, так весело и щеголевато смотрелись в кристальные волны; стены, огражденные как бы на шутку маленькими пушками; окна, из которых развевались шелковые гардины и выглядывали меж цветов детские и женские головки, это уединенное и прихотливое местоположение, все говорило о благополучии и довольстве, все доказывало, что этот дом был жилищем радости, а может быть, и любви… «Тут, — шепнуло сердце одинокой путницы, — тут можно бы прожить так чудесно, так благоденственно, если бы!..» Она не кончила этой внутренней речи и утерла крупную слезу, нависшую на густой реснице… Ей непременно хотелось знать, кому принадлежит воинственный кастелло: ей казалось, что одни счастливцы могли выбрать такое место, чтоб избежать всякого докучливого соседства, чтоб прервать всякое сообщение между ними и обитателями твердой земли, довольствуясь собою и чудным зрелищем небес и моря, замыкающих их горизонт. Справились у почтальона, и оказалось, что действительно полуостров и замок принадлежат молодому капитану коммерческого флота, который проводит тут с красавицею женою все то время, которое он не на корабле. Говорили, что он богат, хорош собою, что он объехал вокруг света и навез много добра и всякого дива из своих дальних странствий. Как всегда и везде народная молва прибавила небывалое к правде, чтоб создать сказочное благополучие из простой, но столь чудной повести двух счастливцев, богатых, молодых и влюбленных. Эти толки удвоили задумчивость страдалицы, угадавшей чутьем сердца близость сердечного отношения. Возможность счастья на земле преследовала ее, как насмешка над ее участью, как тень ее сокрушенной любви и разрушенной надежды… С каждым днем ей становилось больнее и скучнее.

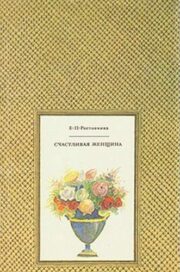
"Счастливая женщина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливая женщина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливая женщина" друзьям в соцсетях.