Прошло почти два месяца, и сентябрь начал обезлиствлять леса и сады, между тем как солнце с каждым днем более и более удалялось от отцветающей земли. Марине приказано было докторами провести зиму в Италии. Она колебалась между Флоренцией, Неаполем и Римом, но Борис, влюбленный в Средиземное море, особенно же в залив Венеции и в картинную Корнишу, вьющуюся зеленой лентой вдоль моря от Генуи до Ниццы, Борис упросил ее ехать в Ниццу, куда он тоже должен был отправиться с нею и где заранее обещал он ей столько же тишины и свободы, как у берегов Некара. Быть с ним, вот только что необходимо было Марине: о месте пребывания собственно она не заботилась; следовательно, она стала сбираться в Ниццу.
Однако блаженство их не оставалось совершенно безопасным: со стороны севера сбиралась на них грозная туча. Ухманские скучали без своего кумира; мать Бориса неоднократно спрашивала, когда он намерен вернуться к ней; наконец последнее письмо ее принесло известие, что она больна и ждет сына, чтоб «еще раз» взглянуть на него. Приписка сестер была патетически призывна и отчаянна.
Борис испугался бы смертельно, если бы в то же время не получил письмеца от отца, в котором добрый старик благословлял его на продолжение путешествия, уведомляя при том, что все в доме живы, здоровы и благоденствуют. Это успокоительное уверение подтверждалось и длинным посланием от Вейссе. Стало быть, вести различествовали и разногласили из двух этажей дома, как два журнала противных между собою партий. Борис, впрочем, лучше приготовленный, чем обыкновенная публика журнальных читателей и подписчиков, догадывался, с какой стороны была правда и истина, и ничего не изменил в дальнейших своих распоряжениях.
Его ответ матери и сестрам был написан без колебания, нежно, ласково, от души, но с твердым отказом возвратиться и с просьбою доставлять ему следующие известия уже в Ниццу. За глаза он был смелее, и любовь придавала ему самостоятельность. Гейдельбергская очарованная и очаровательная жизнь описывалась им лишь отчасти, то есть употребляя эгоистическое местоимение я везде, где вероятность рассказа требовала бы поставить чистосердечное и сердечное мы; благодаря этому умственному ограничиванию собственных мыслей он мог передать пламенно и живо, так, как чувствовал, всю полноту, всю свежесть и беззаботность своего добровольного отшельничества. Эти полупризнания дышали им умалчиваемою страстию, и письмо было красноречиво, как сама страсть. Следует прибавить, что оно писалось в гостиной Марины, откуда Борис не отлучался по целым дням и где он привык даже заниматься. Кончив, он захотел прочесть его той, которая дышала незримо, но ощутительно, под каждым словом, каждым выражением письма. Слеза умиления и благодарное пожатие руки были его наградою после этого чтения, прослушанного молча, очи в очи.
— Но, друг мой, — заметила она, — ведь завтра еще не пойдет отсюда почта: это преждевременный труд, письмо должно дожидаться.
— Пусть его лежит себе здесь! — было ответом, и Борис запер его беззаботно в ящик стола, что-то напевая. Он был доволен собою и своею решимостью!
Дня через два, после завтрака, она и он шли об руку на прогулку, желая воспользоваться благотворным солнцем полудня. Медленно и задумчиво осматривали они прелестные местоположения, с которыми им надлежало вскоре проститься. Их взоры благодарили край, где им расцвела новая эра любви и радости. Их мысли, следуя за извилинами серебристого Некара, перебегали вслед за ним по долинам, у подошвы гор, припоминая дни, ими тут мирно проведенные. Так добрались они до местечка, называемого Вольфсбруннен, где путешественникам показывается, как достойная замечания, одна мнимая диковинка, то есть садок, где откармливаются огромные форели. Но если это весьма простое диво не стоит патриотического восторга, которым его окружают туземцы, то обманутое любопытство путников слишком вознаграждено живописною прогулкою, туда ведущею, и самым местоположением сада, где находится этот пруд. Это рощица, где зелень так густа и тень так прохладна, что в самый сильный жар там всегда можно найти свежий приют и отрадное отдохновенье. Пришедши туда, Борис закурил сигару, а Марина уселась на траву и забавлялась, бросая листья в ручей, смотря вслед их плавания и прислушиваясь к ропоту воды, бегущей по мелким камням, служившим ей руслом. В минуту сочувственного молчания вдруг возле них раздался женский голос, говорящий по-русски… Родная речь, хотя произнесенная довольно неизящно, потрясла неожиданностью своею наших мечтателей. Оба оглянулись и были неприятно поражены: перед ними стояла одна барыня, короткая приятельница Ухманских, усердная посетительница зеленой гостиной и надежная разносчица вестей и толков, оттуда исходящих. Марина отшатнулась было назад и хотела спустить свою кружевную вуалетку, пока Борис готовился удалиться за деревья, но было поздно: барыня их узнала и уже стремилась к ним с восклицаниями и расспросами. Должно было скрепя сердце встретить опасность лицемерною улыбкою.
Ах!.. Это вы?.. как я рада! и прочие пустые фразы посыпались на них, и новоприбывшая, будто бы восхищенная встречей с ними, успела в минуту осмотреть их с ног до головы, осведомиться, давно ли они здесь, надолго ли, душевно порадоваться, что видит их веселыми и довольными, предложить им видаться как можно чаще, и сообщить им, что она пробудет с неделю в Гейдельберге, чтоб посоветоваться с докторами о здоровье своего мужа, которого она так обожает, что предприняла это путешествие, так как ни на минуту не может с ним расстаться. Покуда она говорила, обоим слушающим было неловко; оба замечали ее злобную гримасу и пытливые взгляды; оба предвидели, как эта встреча впоследствии породит им много неприятностей, и заранее знали, какие потоки красноречивых описаний и сплетен появятся из-под пера опасной путешественницы в хранилище зеленой гостиной. Марина, очень мало и только издали с ней знакомая, отклоняла учтиво, но холодно все вопросы и предложения, извиняясь своим нездоровьем; Борис, обязанный оказывать уважение другу дома его матери, кланялся очень много, говоря очень мало. Через четверть часа соотечественница оставила их, чтоб обратить свое внимание на форели и продолжать осмотр гейдельбергских примечательностей. Они возвратились домой, но теперь ни окрестные виды, ни чудное утро не могли их развеселить; оба шли молча, потупя голову и взор, оба проклинали докучливую встречу: он боялся доноса на него и потом упреков своей матери; она понимала, что в нем происходило и боялась за их взаимное спокойствие.
Ни тот, ни другой не обманулись.
Едва милая соотечественница успела добраться до своей гостиницы, как села писать ко всем своим петербургским приятельницам и подробнее всех к Ухманским: рассказала, как она встретилась с бедным Борисом и этою безнравственною, кокетливою Ненскою, как и где она их застала, как Ненская была одета, как она весела, как торжествует, что успела похитить сына у несчастной матери, как ее собственное сердце, истинно преданное друзьям своим, вчуже обливается кровью при виде такого богопротивного соблазна, и много еще прочего, тому подобного. Вы спросите, может быть, зачем и ради чего она так хлопотала и распространялась об этом предмете? чем ей мешали наши скромные гейдельбергские отшельники? какую выгоду могла она найти, вредя им?.. Боже мой! за кого же вы ее принимаете?.. разве она способна из чего-нибудь и ради собственного своего интереса чернить другую женщину?.. Нет, она выше таких низких побуждений!.. Нет! она имеет в виду одну мораль, одно приличие! Она заступается вообще за добродетель и нравственность, которым крайне обидно и предосудительно, что люди, утомившись задыхаться в светских сходбищах и в переполненных залах, пошли себе дышать чистым воздухом в живописной стране, что они сидят на берегу Некара, созерцая и наслаждаясь, что они могут довольствоваться природою и собственною жизнью души и молодости, не нуждаясь в забавах и шуме, необходимых другим организациям… Она и не воображает вредить кому бы то ни было!.. Она так добра!.. так благовоспитанна!.. Как вам не грех ее подозревать?..
А Борис был как ребенок, которого испугали во сне, в чудесном золотом сне, сладко его укачавшем и ублажившем райскими грезами и восхитительными видениями… Он очнулся, но не вполне и в просонках еще ищет то, чем за минуту был так счастлив и так очарован. Появление враждебной говоруньи имело на него влияние Медузиной головы: он был поражен. Он припомнил вдруг и вечные сплетни насчет его и любимой им женщины, и длинные увещевания матери, и бесконечные филиппики сестер… Он был перенесен вдруг в зеленую гостиную и предоставлен всем ее ласковым ужасам…
Мы уже сказали и теперь должны на том настоять, что главным, что единственным недостатком, затмевавшим блестящие качества и светлую, любящую натуру Бориса, была его несамостоятельность и слабость. Воспитанный в рабском страхе людского мнения, он боялся его, как привидения, инстинктивно и бессознательно. Этот рыцарь по душе, который не пощадил бы жизни для своей возлюбленной, не смел держать ее сторону, когда, для того чтоб вернее нападать на нее, умели искусно напугать его вымышленным восстанием против него светского мнения. Он был совершенно подчинен мнимой власти этого несуществующего, но всегда призываемого на суд и выставляемого судилища света, этого условного и ложного судилища. Он был готов всегда послушаться этого мифического, но по несчастью столь сильного общего мнения, которому не верят внутренно те самые, кто всех громче кричат о нем. Общее мнение, страшилище, которым пугают семнадцатилетних ветрениц и неопытного новичка юношу; общее мнение, всегда готовое оправдать и обелить того, кто побогаче, посильнее и посмелее; общее мнение, мираж чудовища, пугающий издали близоруких, но исчезающий легче дыма при хладнокровном воззрении, по мере того, как к нему подходишь ближе; общее мнение было одним из заблуждений Бориса — он верил в него и этим доверием действовали искусно и удачно на отуманенный им разум человека, во всем прочем столь ясно и верно рассуждающего. Если бы Борис был самостоятельнее и тверже, много горя избегнул бы он для себя и для Марины.

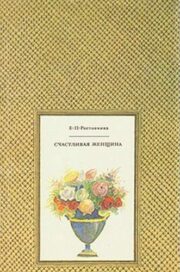
"Счастливая женщина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливая женщина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливая женщина" друзьям в соцсетях.