Дамская оппозиция одержала верх: Борис дал слово отсрочить свой отъезд.
Этот новый удар, это новое доказательство ничтожности любви перед другими отношениями, довершили раздражение и отчаяние Марины. Все, что обещала она себе радостного и чудесного от своего путешествия, мгновенно рушилось, и сердце ее разбилось вдребезги вместе с светлыми ее надеждами. Но для того, чтоб отступиться от принятого намерения, чтобы остаться на явное сознание перед целым городом причины, ее удерживающей, было уж слишком поздно. Она должна была ехать, и она поехала. Полуслепая гувернантка, да люди, преданные ей, сопровождали ее на этом крестном пути ее сердца, переполненного горечью отчаяния и обмана.
Куда же она ехала?.. Она сама не знала… Она отдала почтовый маршрут дворецкому, заменявшему ей курьера, и велела везти себя без остановки… Куда? — для нее было все равно теперь, когда она уезжала одна… Борис посадил ее в карету, заливаясь слезами. Она вспомнила знаменитый упрек одной несчастной женщины, любимой королем, молодым Людовиком XIV, когда ее удаляли, увозили от него, а он тоже плакал при расставании, вместо того, чтоб заступиться за любовь свою и единым словом разгромить все, что против нее покушалось. «Sire, vous êtes roi vous pleurez — et je pars!»[10] — говорила Мария Манчини сыну Анны Австрийской. «Борис, ты мужчина, ты плачешь, и ты любишь меня, а я еду без тебя!» — хотела бы сказать Марина своему отчаянному, но бессильному другу… Но это только бы удвоило его горе оскорблением, но ничему не помогло бы. Она смолчала! — и пожала руку рыдающему Вейссе, который закрывал дверцы дорожного дормеза и повторял последнее дружеское благословение над склоненною головою плачущей женщины, которая и теперь еще, и в эту самую минуту, не переставала слыть и любимою и счастливою между всеми, кто не читал в душе ее страшной повести такой любви и такого губительного счастия!..
В Германии Марина не видела ничего, ничем не занималась, ничего не хотела заметить. Правда, где ей было наблюдать и замечать, когда она безотрывочно смотрела на портрет Бориса, не выпускаемый ею из рук! Слепая француженка и дворецкий распоряжались вместо нее, возили ее на воды, приглашали докторов на консультации, она все допускала рассеянно, но ни в чем не принимала участия. Все существо ее, истерзанное, измученное долгими страданиями и волнением, впало в благотворное оцепенение. Душа ее спала умственным сном, покуда физические силы отдыхали в своем изнеможении. Через два месяца она прибыла в Баден, где ее ожидала графиня Текла Войновская. Женщина-урод ужаснулась, видя жестокую перемену, совершившуюся в столь немного времени в женщине-красавице. Сердце Теклы, закаленное и холодное, как сталь, для всего, что касалось лично ее самой, сохранило редкое свойство ощущать чужое горе и соболезновало страданию другого нежного сердца, потому что хотя только раз в жизни, но зато вполне, оно испытало все терзания обманутой любви и горького разъединения. Текла, без расспросов и признаний, тотчас поняла все, что должна была прочувствовать и прострадать некогда молодая и пламенная ее приятельница, чтоб дойти до теперешнего ее наружного бесчувствия. Она поняла, какое сомнение, какое недоверие тяготело над нею. Кроме того, по переписке с петербургскими друзьями графиня Войновская знала о городских слухах насчет неудавшейся свадьбы Бориса, о странном и предосудительном для него положении, в которое вовлекло его слишком расчетливое семейство. Ей не трудно было угадать все, что больная приятельница не решилась бы, да и не сумела бы, может статься, сама открыть ей: графиня вознамерилась спасти Марину. Не теряя времени, она написала Борису, чтоб он тотчас же приехал, если не хочет быть виною смерти им недавно еще столь обожаемой женщины. Письмо графини дышало благородным негодованием тех смелых и твердых душ, которые в прямоте своей ненавидят все, что неправо, нечестно, несправедливо. Не боясь ничьих упреков за свое вступательство в чужие тайны и семейные дела, когда нужно было помочь страждущим и требовалось действовать сильно и скоро, — она не умела щадить мелких расчетов самолюбия, не подчинялась уточненным привычкам угождать равно и виноватым и правым, уберегать и ту и другую сторону, чтоб все были ею довольны, и волки могли быть сыты, когда овцы оставались целы. Письмо ее было направлено против всех врагов счастья Марины: в нем высказывалось порицание и опровержение всех светских возражений, всех мелких внушений эгоизма. Это письмо громило все современные пороки, чтоб воздвигнуть и восставить во всем ее величии чистую хоругвь истинной любви. Но она не показала его и не сказала о нем Марине, опасаясь возмутить заранее ожиданием и надеждою угасавшую душу молодой мученицы. Она знала, как жестоко напоминать о возможности радости тому, для кого жизнь есть только сцепление страданий и неудач. Как опытные сестры милосердия, умеющие ходить за больными и обращаться с ранеными, не пробуждая в них уснувшей боли, она могла ухаживать за сердечно немощными не расшевеливая в них болезненной струны воспоминания. Только женщины, которые сами много страдали и горевали, умеют и могут успокоивать такие недуги.
Через несколько недель Борис уже был на Рейне, в Гейдельберге, куда графиня Текла перевезла Марину, чтоб избавиться от шума и веселостей многолюдного Бадена. Свидание кающегося, но все еще любящего и любимого молодого человека с той, которая умирала за него и для него, это свидание принадлежит к ряду тех сцен, на которые повествователь строго предписал себе набрасывать классическое покрывало Апеллеса, которым художник скрыл от зрителя чело Агамемнона в минуту жертвоприношения его любимой дщери, потому что вдохновенный живописец хотел показать свету, что есть в человеческой жизни такие минуты, а в человеческой душе такие движения, для которых не существует ни красок, ни описания, ни подражания…
Борис с благодарностью и восторгом целовал руки графини. Не только сильное красноречие ее намеков и советов не рассердило его, но, напротив, он был признателен той, которая одна так смело ополчалась на светские предубеждения, и в тесном мире материальных понятий и сухого рассудка одна еще чтила, еще исповедывала прекрасные верования в святыню чувства и любви. Письмо графини пробудило в нем все лучшие побуждения, дремавшие под гнетом чужих наущений. Когда все и все окружающие его наперерыв старались внушить ему уроки себялюбия и суетной забывчивости, заставить его изменить первой любви и первой клятве его молодости, ее строгий вещий голос издали напомнил ему долг чести и совести, призвал его опять в лучший мир сердечных увлечений; окрепнув при нежданном пособии ее союза, опираясь всем своим любящим сердцем о ее светлый, беспристрастный разум, — он яснее стал читать в себе самом и нашел силу снова бороться с своей семьей, снова урваться от ее расчетов и умозрений к возлюбленной и ничем не заменимой женщине. Найдя ее изнемогшею под бременем горя и воспоминаний, он жестоко раскаивался, что не поехал с нею, роптал на себя, на свою слабость, на родных и клялся вперед спрашиваться и слушаться только своего сердца. Любовь и счастье взошли снова лучезарными светилами над головами соединенных; снова жизнь и природа улыбнулись им… через неделю Марина воскресла, похорошела, расцвела… Борис был влюбленнее, нежнее, страстнее, чем когда-либо.
Тогда графиня Войновская объявила им, что она оставляет их и уезжает в свои австрийские поместья. Напрасно старались оба удержать ее. Напрасно Марина, с суеверием сердца, научившегося в горе верить всем приметам и всем влияниям, упрашивала Теклу остаться с нею, ей на счастье. «Нет, дитя мое! — отвечала графиня, с улыбкой целуя ее прекрасный и прояснившийся лоб, — нет! теперь я не нужна тебе, я успокоена на твой счет, оставляю тебя на руках того, кто заменяет тебе собою всю вселенную! Меня призывают другие заботы, другие дела, свои и чужие! С вами мне делать нечего, а я должна действовать, подвизаться, хлопотать, служить делом и словом, когда надо и где надо! Эта жизнь единственная, которая мне доступна, эта деятельность моя настоящая стихия. Без них я пропаду с тоски. Признаюсь даже тебе, что оставаться между вами — двумя счастливцами, смотреть на вашу любовь, на ваше сладкое существование вдвоем, было бы для меня вредно: как знать, какие мысли и сожаления могли бы во мне пробудиться?.. Нет, лучше бежать от них и от вас! Я могу, я хочу, я умею доставлять и желать счастья тем, кого люблю, но видеть его иногда свыше сил моих… Прощай, Марина, Бог с тобой! а для меня лежит другая дорога… Я Марфа, которая „печется и молвит о мнозем“, а ты избрала „благую часть“, пусть только „она от тебя не отнимается!“…»
Когда графиня Текла садилась грустно и молча в дорожную карету, уносившую ее на дальнее поприще ее многосторонней жизни и деятельности, Марина стояла у широкого окна своей комнаты, опершись на руку Бориса, который поправлял на ней шелковую мантилью, чтоб она не простудилась, — Марина, осчастливленная снова своею и его любовью, глядела ласково вслед отъезжающей и посылала ей рукой и взглядом последнее напутственное прощанье… Текла, подняв голову, обратила взоры свои на окно гостиницы, увидела группу, образуемую смежными головами своих друзей, и вздохнув, махнула курьеру, чтоб он велел скорей трогаться с места. Почтальон громко затрубил в свой медный постгорн… раздалось хлопанье его длинного бича, на улице там и сям высунулись любопытные и англичане (где ж их нет?), чтоб посмотреть, кто приехал или уезжает, — и многосложный герб знатной вдовы еще долго возбуждал догадки и разговоры, пока она катилась по узким, но чистым улицам Гейдельберга.
Кто из вас знает Гейдельберг? Кто, проезжая через него, чтоб из Бадена отправиться во Франкфурт или обратно, потому что Гейдельберг стоит на общем перепутье почти всех прирейнских городков и резиденций, — кто, говорим мы, проезжая, был завлечен и очарован его чудным местоположением, его дивно-картинными окружностями, его чистым, животворным воздухом, а еще более его спокойствием, веселием, довольством, просвечивающимися в малейшей черте, в каждой подробности его миловидной наружности, кто, вместо того, чтоб переночевать и отобедать, как следовало, осмотрев бесподобные развалины старого замка, раздумал ехать дальше, захотел пожить тут, велел отправить лошадей и остался на день, на два, потом прогостил неделю, быть может, еще другую, и принужденный наконец продолжать свое путешествие, поехал с сожалением, оборачиваясь взором и душой к привлекательному местечку и обещая себе снова навестить его, если Бог даст, — только тот поймет, как восхитительно пребывание в этом впрочем второстепенном городке, и только тот может живо представить себе жизнь почти романическую, которую вели себе на свободе Борис и Марина в Гейдельберге. По какой-то феноменальной недогадке, это благодатное местечко ускользнуло от всевидящей спекуляции, принявшей давно на подряд и на откуп все живописные местоположения Германии, все целебные ее ключи, источники, чтоб устроить около них огромные гостилища для праздного богатства странствующего европейского вельможества. Гейдельберг спасся от Беназе и ему подобных учредителей ярмарок тщеславия и притонов рыцарей грабительного изобретения, где заманчивая рулетка и коварный trente-et-quarante соблазняют столько несчастных, опустошают их кошельки и обогащают игорного банкира; в Гейдельберге нет еще ни Тринк-Галле, ни Конверсационс-Гауз, ни Salon des Fleurs[11], ни Казино, — туда не стекаются со всех концов Европы и Америки люди странствующие и люди страждущие, чтоб себя показать, либо на других посмотреть, или сорвать банк удачным ударом и скакать на другие воды, чтоб прокутить там весело свою добычу. Но зато старинно-славный университет и пребывание некоторых светил медицинской науки беспрестанно привлекают в Гейдельберг немецкое юношество различных сословий — эту живую силу, несущую с собою одушевление и движение повсюду, где она проявляется, — да еще несколько богатых семейств высокоблагорожденных фрейгерров и магнатов, у коих находятся настоящие больные, которым нужно и лечиться и дышать здоровым воздухом этого прекрасного края. Оттого-то обилие, чистота и жизнь поражают путника с первого взгляда на Гейдельберг. Хотя туда не достигла еще дороговизна других прирейнских местечек, избалованных возрастающим съездом и пребыванием всех милордов, настоящих и подложных; хотя все нужное для ежедневной жизни относительно очень дешево в Гейдельберге, однако торговая деятельность не оставила его вместе с отбытием двора, и, перестав быть резиденцией, тому гораздо более ста лет, он сохранил собственную деятельность и собственную жизнь. В нем не увидите вы той ужасной нищеты, которая так часто огорчает взоры около всех так называемых Lustor ten (мест веселья). Одежды там опрятны, лица веселы; мещанская аккуратная суетливость и хлопотливость не лишены своей германской поэзии и не кажутся смешными и пошлыми, потому что на них не отбрасывает невыгодной тени никакая резкая противоположность соседнего величия и богатства. Всего лучше можно бы выразить впечатление, производимое Гейдельбергом, сказав, что он ganz gemüthlkh[12].

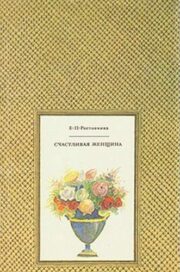
"Счастливая женщина" отзывы
Отзывы читателей о книге "Счастливая женщина". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Счастливая женщина" друзьям в соцсетях.