Когда мебель уже некуда было ставить, негде было размещать одежду, супруги Ремезовы поменяли с доплатой свою двухкомнатную квартиру на трёхкомнатную, и снова Лариса прикупала с азартом, в упоении то, то, другое.
– Смотри, честной народ, как мы ловко овладеваем свободным пространством, заполняем пустоту! – с театральной патетичностью однажды пробурчал Лев.
– Что? – спросила Лариса, занятая глажением мужниных брюк.
– Так. О своём. Вспомнил отца. Он говорил: жить – значит, заполнять пустоту вокруг себя, бороться с ней, с пустотой то есть. Пустоту жизни, пустоту мира, пустоту нашего быта нужно нещадно заполнять, сворачивать ей шею, если таковая у неё имеется. А если серьёзно: пустота – главный враг человека. Люди радуются, если пустота заполнена чем-нибудь достойным и красивым. Впрочем, отец говорил, кажется, о строителях. Хотя – какая разница, – отвернулся он от жены.
Помолчали. Лариса, влажно тяжелея глазами, спросила:
– Ты мною недоволен?
– Только собою, – мрачно шепнул он, не взглянув на жену.
– Ты таким бываешь странным. Скажи, чем ты недоволен. Я ведь хочу, чтобы нам обоим жилось хорошо.
– Я недоволен только собою. Успокойся.
– Знаешь, ты меня уже сто лет не называешь милой и любимой. Даже по имени не обращаешься ко мне.
– Да? Прости.
– Да! Не прощаю! Ты меня считаешь пустым человеком, недостойным тебя?
– Прекрати, – нехотя обернулся он к ней, но в глаза её не хотел смотреть.
«И её извожу. Зачем, за что?»
– Ты как-то назвал меня мещаночкой. Презираешь, что я мещанка?
– Красивое слово. Ласковое.
– Благодарствую за ласку.
– Уж если кого презираю, так самого себя, – апатично проговорил он. – Ты плачешь? Прекрати, – попросил, не меняя этого тусклого, рыхлого окраса голоса.
Она разрыдалась. Он не вынес её слёз, ушёл в ванную, открыл на полную воду, подставил под струю жестяной таз, чтобы грохотало, забивая звуки извне. Ему было горько и обидно осознавать, что у него к жене даже сочувствия нет, не то чтобы нежности любви.
12
Жизнь совместная у них не сплеталась во что-то единое, неразрывное, необходимое друг другу. Чувства затерялись где-то в первых месяцах их супружества. Лев не торопился домой с работы, а, напротив, набивался на сверхурочные задания, в командировки. Ему бывало уже мучительно скучно в семье.
Он, казалось, увлёкся тем, что отыскивал что-нибудь дурное в жене, и находил, непременно находил. Обижал её от случая к случаю, в порывах раздражения, но как будто неохотно. Она плакала, а он не сразу и пресно извинялся.
Но потом снова отыскивал в ней изъяны. Не сдерживался – и снова, снова был чёрств и беспощаден. Отчего-то называл её купчихой. Говорил ей, посмеиваясь, о её подбородке, который, как воображалось ему, наслаивался складками, о её действительно полнеющих ногах, о её дорогом, но «топорном» цветастом брючном костюме. Упрекал её: когда же она, наконец, прочитает вон ту книжку, которую он купил год назад. Выговаривал коротко, торопливо и скорее закрывался в ванной и открывал воду или же уходил в другую комнату и громко включал телевизор или музыкальный центр, потому что знал, что она опять плачет.
Жизнь становилась мерзкой, жизнь становилась невыносимой.
– У тебя, Лёвушка, появилась любовница? – как-то раз спросила Лариса.
Он, по обыкновению, не посмотрел в глаза жены, а уставился на её подбородок. «Она для меня уже никто», – равнодушно подумал он, а вслух ломко произнёс:
– Да, любовницу завёл. По имени скука.
– Тебе скучно со мной?
– Мне скучно с самим собой.
– Ты иногда чудаковато выражаешься – как блаженный. Не понять тебя. Ты несчастен со мной?
Лев промолчал. Жена привычно расплакалась, а он, тоже уже по привычке, не успокаивал её, и сказал себе, наконец, внятно и твёрдо, что эту женщину он не любит и с женитьбой, несомненно, поспешил.
– Ты не любишь меня.
Лев снова не отозвался.
– Да не молчи ты, идол окаянный!
Но он, несмотря ни на что, промолчал: если говорить, то снова обижать её. Сколько можно! Ему жалко Ларису. Разве повинна она, что он такой, что не может любить её, не может притворяться влюблённым?
Жена поначалу плакала тайком, пепеля свою душу отчаянием и ненавистью. Когда же поняла, что Лев не хочет её беременности, не желает ребёнка, стала жаловаться Полине Николаевне и своей матери. Вмешивались родственники, но вслед за тем супруги ещё более затяжнее и нещаднее скандалили.
Вскоре их совместная жизнь стала невозможной.
– Да скажи ты, в конце концов, какая такая необыкновенная женщина тебе нужна?! – сорвалась Лариса после продолжительного, в неделю или больше, взаимного и, несомненно, враждебного молчания. – Святая, наверное? Ответь, не отмалчивайся! Найди в себе хотя бы чуточку смелости: честно скажи, со всей откровенностью. Ну же!
Не сразу и не поднимая глаз, Лев процеженно вымолвил:
– Любимая.
– Что, что, что?! Ты можешь любить? Ты, эгоист, себялюбец, способен любить? Не смеши людей! Ничтожество!
Лев стремительно вышел из квартиры, как-то удержавшись, чтобы не хватить со всей силы дверью.
– Ничтожество, тряпка! – вдогонку отчаянно выкрикивала Лариса. – Ты никогда не будешь счастливым, потому что любишь исключительно себя!
– Врёшь, – шептал и сдавливал кулаки Лев.
– Ничтожество! Ничтожество!.. – камнепадом раскатисто сыпалось за ним по железобетонным лестницам этажей.
Сызнова жизнь подвисла, обессилено, без сопротивления комкалась в беспутье разума и чувств. Мотался по бытовкам, набивался во всякие нужные и ненужные командировки, месяцами не появлялся дома, не заходил и к матери.
Развёлся с женой, оставил ей квартиру и мебель и поселился в ведомственном гостиничного типа общежитии. Квартиру и мебель ему было жалко, и мать ругала, что себе ничего не оставил. Но Лев рассудил, что должен хотя бы чем-то оплатить несчастной Ларисе за её любовь и терпение. Он именно так и подумал – оплатить. Тут же поморщился, но другое слово не шлось. Он понимал, что виноват перед Ларисой страшно, что только и было между ними – мучил её, нравственно истязал, а она терпела, терпела. Она, бесспорно, славная женщина, молодая, и ещё, конечно же, найдёт своё счастье, – немного успокаивало совесть Льва.
13
Он знал – его сердце ещё неизношено и тем более немертво, – и что-то да ещё случится в нём. Оно – ждёт, оно – верит.
И – случилось.
В общежитии он однажды увидел девушку Любу, Любовь; она недавно устроилась дежурным администратором. Люба ему сразу приглянулась. У неё, хорошенькой, с узенькой талией, с крылышком-чёлкой, с тоненькими капризными ручками, с трелью-голоском, всей такой очаровашки-блондинки, были прекрасные, редкостные, не соответствовавшие её легкомысленной внешности глаза. Лев смущённо, но и пытливо всматривался в их глубокую, «колодезную», поэтично назвал он в себе, черноту, и ему было приятно думать, что дна в них он не увидит. Эти её дивные глаза всегда просветлённо, восторженно поблёскивали, и Лев удовлетворённо и нежно думал о девушке, что она чистая, что она – дева. Наверное, дева; не может быть не девой.
Он радовался, он ликовал, что томление вкрадывалось в его погрубевшее, поостывшее сердце. Ему хотелось окаймить свою расшатанную судьбу, доказать самому себе, матери, бывшей жене, всему, возможно, белому свету, что он нормальный, вменяемый человек, способный любить и быть любимым.
Уже не первый день Люба выходила на дежурство, но Лев никак не мог сойтись с ней короче, поговорить, просто пошутить, что вольно и игриво позволяли себе другие обитатели гостиничных комнат. Он ощущал нараставшую, не свойственную ему, искушённому в общении с женщинами, застенчивость, когда заходил в администраторское помещение сдать ключ от своего номера или же, напротив, взять его. Мельком, но хватко взглядывал на Любу – она приветно улыбалась ему. Он вероломно пунцовел; если спрашивала его о чём-нибудь, – отвечал невнятно, а то и невпопад.
«Что со мной такое? Неужели сходу втюрился? Мальчишка!»
В груди Льва стало твориться нечто невероятное – жглось, искрилось, озарялось самыми радостными, ликующими красками и огнями. Минутами страшило, что потеряет Любу: уведут такую славную, смазливую барышню!
И неделя, и вторая, и третья позади, – а Лев всё не сошёлся, не подружился с Любой. Однако ему было приятным это ощущение наивной детской робости и сумасшедшей влюблённости. Он тихо торжествовал, что сердце его может любить, может мучиться, обмирать, обдаваться жаром или, напротив, холодом. Он, ощущалось им, становился мальчишкой, подростком.
Вместе с тем, однако, стал подозревать за собой – а не боится ли он открыть для себя реальную, живую Любу-Любовь? Узнает её ближе, поймёт глубже – и рассыплется, улетучится его нежность, его благоговение. Зыбок и шаток мир вне его души!
Постояльцы судачили о Любе, и Лев ревниво, с затаённым раздражением выслушивал, другой раз выспрашивал и изводил себя тем же неотвязчивым, зловредным вопросом: та ли она? Один парень с развязностью заявил, что в общежитие она устроилась потому, что мужики ей нужны, что девка она блудливая, дрянная и, сообщил, похохатывая, не отказала ему, чуть только он «намекнул» ей.
Лев внезапно рассвирепел, мощным рывком схватил парня за рубаху под самый кадык:
– Врёшь, ничего у тебя, дохляка, не было с ней! Ну, соврал? Говори!
Парень, зеленея и синея, на полвздохе хрипнул:
– Соврал, соврал!
Лев не сразу ослабил руки – занемели. Парень повалился на колени, откашливался, испуганно, но озлобленно снизу моргая на окаменелого своего обидчика.

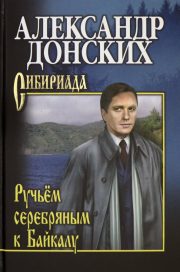
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!