Мать становилась настырной, чрезмерно ворчливой. Сын нервничал. Они бранились, и так дальше снова нестерпимо было жить.
Льву предложили с полгода поработать на строительстве северной гидростанции, и сын, как когда-то в армию, сбежал от матери.
Север восхитил, обнадёжил и встряхнул Льва. На обрывистых берегах бурной реки, среди промороженных во сто крат снегов, среди гористых чащобников беспредельного таёжного края, среди скал и ущелий, в морозы с обжигающим, мертвящим кожу хиусом, на самой что ни на есть вечной мерзлоте ударно, ежеминутно росла гидростанция – грандиозное, величественное сооружение. Лев, когда по работе взбирался к монтажникам на верхние отметки, восхищённо смотрел вокруг. Какие дали, какое могущество, какой размах, какая дерзость человеческого труда! Люди сверху смотрелись муравьями, и Льва поражало – они же и творят сие чудо! Он до того увлекался, до того задумывался, что забывал, зачем забрался на эту жуткую верхотуру, утробно звенящую под напором ветра металлом, ощетиненную арматурой. Всюду вспыхивали огни электрической сварки и кислородных резаков. Льва окликали, добродушно посмеивались над ним. Он стеснялся своих ребячьих восторгов, но не умел их надёжно скрыть.
На Севере хандра оставила, и ему хотелось только одного – участвовать в этом великом деле созидания. Такая жизнь освежала и бодрила его душу. Ему нравилось жить в тесной, но тёплой общаге в компании с сильными мужиками, от которых устойчиво пахло потом, спиртом и табаком. Они были веселы и легки. Если нужно – работали сутками и, представлялось, совсем не уставали. Не ныли, не печалились. Были нехитры и понятны. Лев надеялся и ждал, что здесь в его душу войдёт и закрепится что-то истинное, надёжное, долговечное. Что, может быть, завяжется в его жизни сердечная мужская дружба, такая, что можно будет открыться, и тебя не обманут, не посмеются над тобой. У него было много приятелей, его уважали, к нему тянулись. Его звали ко всем общежитевским застольям, и он вечерами и ночами просиживал с мужиками за столом, пил с ними спирт и водку, но не пьянел, потому что всегда знал и любил меру.
Льву радостно думалось о своей душе: что она тоже «строится», «поднимается». И жизнь потихоньку выправится, и он окончательно отделается, увернётся-таки от своей докучливой неуверенности, предубеждений, начнёт жить по тем отцовым напутственным словам – не труся, не юля по жизни.
Вернулся домой, но и месяца не выдержал: Иркутск томил, мать ворчала и наседала, а работа на участке и в управлении была сплошь рутинная, не захватывала. Запросился у начальства на Север, даже отказался от жданного и заслуженного повышения. Отпустили с великой неохотой только месяца через три: стоящие инженеры и здесь нужны. Уехал, чтобы спасаться от самого себя, чтобы загребать от жизни обеими руками.
Так и качало его: приезжал – уезжал, приезжал – уезжал. Возвращался на «материк» с большими деньгами, тратился щедро, бездумно, но всегда радостно и легко. Казалось, деньги ему нужны были единственно для того, чтобы изводить, разбрасывать их, точно новогоднее конфетти, теша себя и окружающих маленькими праздниками. Могло представиться, что он легкомысленный, несерьёзный человек. И, быть может, кроме матери больше никто не догадывался, что он серьёзный настолько, насколько серьёзное отношение к жизни и людям может сделать человека несчастным.
10
Однажды там, на Севере, молодая женщина из конструкторского бюро сообщила Льву, что беременна от него. Он испугался, – внутри вспыхнуло, обжигая. Тихо, шелестяще пробормотал в ответ что-то торопливое, путанное, невразумительное. Она подождала, не скажет ли он ещё что-нибудь, и с напускной бодростью заявила ему, что родит, будет ли он жить с ней или бросит; однако глазами впивалась в него.
Он – на колени перед ней:
– Умоляю… аборт… надо… пойми. Я не хочу. Не хочу…
Но он не смог произнести, чего же именно не хочет. Помолчав и поднявшись с колен, сказал чётче, яснее:
– Да, я насладился, удовлетворил свою животную страсть. Но неужели за минуты наслаждения мы должны с тобой расплачиваться всю оставшуюся жизнь?
– Ты думал, что я от болвана буду рожать? – озлобленно засмеялась она, но не выдержала – разревелась, заскулила.
Стала задыхаться, а он пытался помочь ей. Она отмахивалась и отталкивала его.
– Так ты не беременна? Не беременна? Скажи, скажи!
– Нет, нет, угомонись, мой пылкий Ромео! Проверила тебя.
– И поняла, что я идиот?
– Идиот? Ты, гляжу, высокого мнения о своей драгоценной персоне! Да знаешь, кто ты? Ты… ты… мерзкий, ужасный. Ты – нелюдь! Наигрался? Доволен? Получил кусочек радости? А теперь убирайся, не могу тебя видеть.
Лев встретился с её страшными, испятнившимися яростью глазами. Остро понял, что ничтожен, слаб, жалок, низок. Что или кто ещё он!
Однако, он не мог упрекнуть себя за то, что не полюбил этой женщины: она была разведена, на «материке» с бабушкой жил её пятилетний сын, а она здесь среди холостяков искала себе состоятельного мужа, – это было несомненным для Льва, потому что таким образом поступали многие одинокие женщины, приезжавшие на северные стройки и прииски. Лев всякий раз спрашивал себя, приходя в её отдельную комнатку в женском общежитии: первый ли, единственный ли он, с кем она здесь наедине и в ком увидела своего будущего супруга?
Не рассчитавшись на работе, не оформив командирочное удостоверение, в мерзких чувствах Лев первым же рейсом улетел с Севера и не вернулся. Можно было ещё заработать денег, но к чему они ему – одному? Только что если потом – расшвыривать.
Впереди ему виделась потёмочная тусклота. Он не знал и не понимал, как жить, для чего, для кого жить? Перебираться из одного дня в другой – зачем? Ни север, ни юг, ни восток, ни запад, наверное, уже не могут ему посодействовать. Но он понимал, что причина его несчастий – внутри него самого, и она глубоко застряла, до того глубоко, что, грустно усмехался он, север не смог выморозить её своими ветрами и стужами, и юг не выжжет своим раскалённым солнцем. Что же говорить о востоке или западе!
Но этак дальше жить невозможно и даже глупо. Нужно что-то предпринять, что-то, возможно, перестроить в душе. Может быть, переселиться на другую планету, в другую галактику, – печально шутил в себе Лев. Но где взять корабль? Или по-страусиному запихнуть голову в землю. Но чем дышать?
11
Наконец, ему встретилась-таки хорошая девушка. Та – почувствовал он.
Лариса не могла не понравиться Льву, потому что была красивой, умной, податливой, из приличной семьи. Она, несомненно, была прелесть. Льву захотелось по-настоящему полюбить эту славную девушку. Если же подкрадывалось сомнение, он торопливо возражал этому своему бдительному двойнику:
«А помнишь ли ты, что такое любовь? Ты столь часто и настырно изгонял её из своего сердца, что оно теперь может легко сбиться, запутаться, не распознать её. Не правда ли?»
И сам отвечал себе, но зачем-то с издёвкой, ёрничая:
«Правда, правда, Лев Павлович! Вы до такой степени мудры в этой области человеческих знаний, что, хорошенько подумайте, не защитить ли вам диссертацию, да сразу докторскую? Вот будет славненько: профессор Ремезов. Но каких наук? Ну-с, к примеру, совершенно новой науки, изобретённой вами же, – брачной».
Познакомил Ларису с матерью. Полина Николаевна была счастлива: в кои-то веки сын пригласил в дом свою девушку! Девушка ей понравилась очень.
– Если уж ты и эту упустишь, – сказала она сыну с глазу на глаз, – ой, не знаю, что потом о тебе думать, противленец ты несчастный.
Лев поморщился, но промолчал.
– Что, снова зуб болит?
– Нет, сердце. По твоему давнему совету – всё же заболело моё сердце.
– Нравится тебе Лариса?
– Я же тебе говорю: моё сердце уже страдает.
– Не пойму: серьёзно ты говоришь или шутишь.
– Серьёзно шучу. Или шутливо серьёзничаю. Выбирай, что тебе нравится.
– Ай тебя!
Сделал Ларисе предложение. Поженились. Съездили к морю. Потом любовно и в согласии обставляли кооперативную двухкомнатную квартиру, которую Лев купил на свои сбережения. Приходила мать и умилённо прижимала руки к своей груди:
– Какие вы голубки!
– Не сглазь, – мрачно отшучивался сын.
– Ой, не пугал бы ты меня, Лёвушка.
Жена оказалась прекрасной хозяйкой, домоседкой, сговорчивой, ласковой, неглупой – и много чего ещё находил в ней Лев, чтобы действительно, наконец-то, стать счастливым, довольным жизнью и собой.
Лариса едва не каждый день что-нибудь покупала для дома из хозяйственного обихода и умела приобрести именно добрую, нужную вещь; а деньги были всегда – Лев умел и любил зарабатывать. Уже в первый год супружества квартира была заставлена мебелью, редкостно прекрасной, завешана коврами, картинами, часами, всевозможными милыми безделушками. Шкафы были наполнены отменной одеждой. Ванная комната – сияющая, оснащённая превосходной техникой. Чего только не водилось в доме! И покушать всегда было готово, и вовремя было постирано, поглажено, всюду чисто, промыто, соринку не найти. Казалось бы, живи и радуйся.
Однако Лев становился угрюмым, закрытым, даже, случалось, бывал недобр с женой. Ему отчего-то было скучно и одиноко среди всех этих красивых, дорогостоящих и, несомненно, нужных вещей, в этой чистой, стерильной и удобной квартире, с этой умной хорошенькой молодой женщиной, которая равно сильно и преданно любила и эти свои вещи, и этого своего мужа. Ему вспоминалась жизнь отца и матери – многое, многое так же было. Почти так же. Лариса нигде не работает, оставила свою профессию воспитателя, – домохозяйствует, как и до выхода на пенсию и после домохозяйствовала мать. И это тоже отчего-то тяготило и раздражало.
Он снова спрашивал себя: любит ли он Ларису? И если сомневался, то, выходит, желал какой-то лучшей жены. Но в чём она должна быть лучше? Срывался: зачем спрашивать и пустословить! Любить надо её и жить с ней, коли она твоя жена!

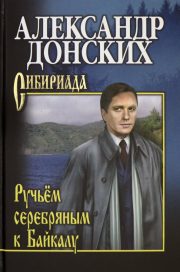
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!