Не удивился братьям, не испугался их, но лишь прибавил в своём невольном монологе, правда, с морозящей кровь решимостью и готовностью:
– Если что, то…
Оборвал себя. Но что если что? Что то? Не захотел обдумывать: быть может, если обдумывать, взвешивать, прикидывать, то можно, кто знает, слабину дать, а он никого – ни-ко-го! – не боится и бояться уже не имеет права, потому что в доме его ждёт Мария его.
Он смотрит издали на братьев и ему вспоминается, как он когда-то сгрёб их за шиворот и вывел чуть ли не за ухо из своего рабочего кабинета. Потянуло засмеяться, захохотать. Что могут против него, крепкого, тёртого, к тому же вооружённого, что могут против него, льва, царя зверей, эти два мозглявых, недоразвитых и физически и, похоже, умственно подонка? Тощеватые оба, головёнки засохшие, маленькие, плечи умятые, рожы опухлые похмельные – дегенераты, пацаны, хотя обоим уже за сорок. Единственное, изловчатся, если вооружены, выстрелить первыми.
– Что ж… – сдвинул Лев за пазухой под курткой гашетку револьвера и покрепче сжал рукоятку. Он выученно знает, что лучше бывает первым напасть, чем ожидать и отбиваться.
Старший брат, Пётр, немножко благообразнее, посолиднее обличьем, чем младший, Сергей, выглянул в боковое оконце, выплюнул в направлении Льва докуренную и изжёванную на фильтре сигарету:
– Открывай, хозяин, ворота! Принимай гостей: будем отдыхать-веселиться.
– Проваливайте-ка, братцы-кролики.
– Обижаешь, начальник.
Оба вышли из джипа, с развалкой ленцой поразмялись, попотягивались, с наигранным равнодушием озираясь. Сергей, коротконогий, длиннорукий, с выпертой челюстью, истое подобие обезьяны, зачем-то тряхнул решётку ограждения, с притворной свирепостью уставился на Льва, брезгливо пошевеливая сигарету скошенными губами.
– Угадай, кто из нас в клетке: ты или мы? – спросил он.
Лев промолчал, но подумал: «Хм, да они, кажется, не глупы».
– Мы – с миром, – продолжал переговоры Пётр. – Пока с миром! Хотим, Лев Палыч, отдохнуть в родительской вотчине. Всего-то! Открывай, не упирайся!
– Здесь мой дом, а не чья-либо вотчина. Проваливайте, я сказал!
«А может… а может, уступить?» – вдруг сверкнула, пробиваясь через слои тяжёлых чувств, мысль и на секунду в груди ослабло, даже вздохнулось полегче. Конечно, можно, таким образом откупаясь и, несомненно, лавируя, впустить братьев: отдыхайте, мол, мужики, не жалко; гостевой домик выбирайте любой, баню истопите, продуктами поделюсь, бутылку коньяка поставлю. И немного деньжат можно будет всучить, чтобы отвязались на время. Почему бы не уступить, не умилостивить, а потом добропорядочно выпроводить? Видимо, не могли братцы не явиться: снова, уверен многоопытный Лев, они проигрались подчистую, по-глупому растратили деньги, наверное, уже последнее вытянули со своих злосчастных стариков и пригнало их сюда отчаяние и ожесточение. Понятно, что будут выклянчивать или же нахрапом требовать денег, снова обвиняя Льва в обмане, в хитрости, а то и в подлости.
«Уступи, уступи».
«Им? Мне? Уступить?»
«Уступи! Почему бы и нет? А потом – более менее спокойная жизнь. Будь гибче, хитрее, усмири свою спесь. Ты же вызнал человечью породу!» – говорил он со своей душой.
Но уступить, понимает гордый, упрямый Лев, означает не только запустить в свою жизнь этих ненормальных типов, да попросту мерзавцев, но и уступить всей той прежней жизни, от которой он скрылся, из которой убежал вместе с Марией. Всей той прежней жизни Лев не доверяет! Но самое важное – она, его Мария, беззащитная, слабая, неопытная: если уступит – не подвергнется ли опасности её жизнь, не пострадает ли её душа?
– Открывай, Лев Палыч, ворота, – видимо, приметив на лице Льва борьбу и смуту, в льстивой угодливости улыбнулся и принаклонился даже Пётр. – Говорю же тебе: с миром мы. Отдохнуть охота от трудов праведных и непосильных. Ну, чего застыл, точно памятник самому себе?
«Памятник самому себе? А что, толково сказал!»
И Лев вот-вот склонился бы, чтобы запустить братьев. Конечно же, не лишним было бы сговориться с ними, перехитрить их, чтобы они раз и навсегда или на очень-очень долгое время отвязались от него, забыли этот дом. Конечно же, не бесполезным было бы дать им немного денег. Чувства и мысли перемешались, и вот-вот заговорил бы Лев с ними, внешне мягчея, играя, запутывая следы. Однако пристальнее в прищуре недоверия тёртого человека взглянул на Петра и – неожиданно, во всплеске гадливости разглядел ощеренные в улыбочке мелкие желтоватые гнилые зубки зверька. Вспышкой озарения понял, и не усомнился ни на йоту, что в этой смердящей улыбочке отразилось торжество каверзности и нахальства всей той жизни. И тотчас порадовался, будто осветился внутри: не уступит, ни за что не уступит! Нельзя пятиться, нельзя сдаваться. Держаться до последнего, как в бою, как на войне. Всей мощью своей гордости и презрения придавил, скомкал в себе сомнения, оборвал борьбу. За пазухой рукоятку револьвера стиснул до боли в пальцах. Глыбой памятника перед ними всеми встанет, стеной – чем угодно, а не уступит, никогда и никому! И голос его разума не возразил совести души его, затаился, не стал уговаривать, приводя выгодные доводы.
Никак не отозвавшись на слова Петра, Лев повернулся к братьям спиной и с показной неторопливостью пошёл к дому. Он предполагал, что они способны выстрелить в спину, однако – ни единой жилкой нельзя выдать, что может чего-либо и кого-либо бояться. Тем более Мария его, по своему обыкновению, когда он с кем-нибудь говорит возле ворот, утайкой стоит сейчас у тюлевой занавеси и наблюдает за происходящим во дворе, ожидая своего любимого, волнуясь за него, а может быть, и любуясь им, гордясь, что он у неё такой смелый, решительный, сильный, что он защитник её и потому ей ничего не должно быть страшно в этом мире, что он, наконец, лев, её лев, царь зверей, её ласковый зверь.
– Будя, Петро, цацкаться с ним, – с громким «тьфу» выплюнул Сергей в сторону Льва сигарету. – Эй, ты, прохиндей! Слухай сюды: ты надул наших стариков, обобрал меня и брательника. Знай, ты от нас на дуряка не отбрыкаешься, мы вывернем тебя наизнанку, вытряхнем из тебя нашенское кровное!
Лев не остановился. «Прохиндеем назвали? Ненавидят? Требуют денег?» Уже взбирался на крыльцо. Скоро – дверь, а за дверью – его Мария и милая его сердцу жизнь, жизнь с надеждами, с верой, с любовью. Там настоящая жизнь, такую он много лет ждал, добивался, искал, нередко изводя себя. Дождался, добился, нашёл. Теперь освобождённую, переплавленную душу свою нужно беречь, отталкивать от себя и от Марии любую скверну жизни. «Ну, ладно: прохиндей, так прохиндей, – легко подумал он, уже в нетерпеливой спешке взбираясь по ступеням, невольно забывая показывать братьям, что он предельно спокоен, что никого не боится. – Денежек братцы-кролики хотят? Ладно, дам, но когда-нибудь после. Если сейчас – то обнаглеют пуще, вгрызутся, как в морковку, – не оторвать будет».
64
– Что, струсил, придурок?! – выкрикнул Сергей, в озлоблённом отчаянии сотрясая ограждение. – Струсил, удираешь, падла!
«Струсил? Я – струсил? Я – могу – струсить?»
Вот и произнесено слово, которого он не хотел, произнесения которого, кажется, боялся более всего остального: его, Льва, льва и по имени и по сути своей, умиравшего и воскресавшего духом и телом в той жизни, обвинили в трусости? Они не понимают, что он презирает их, что ему противно рядом с ними находиться, даже дышать с ними одним воздухом не хочет он, что он не может быть перед ними, мозгляками, ничтожествами, плебеями, трусом. Он – лев, он – царь, он – свободен и горд, а потому не может быть трусом.
– Что ж!..
Вернулся натуженно-неторопливой поступью, выверенно-спокойными движениями открыл ключом калитку и – броском зверя ухватил попятившегося, насутуленного Сергея за грудки и рывком со страшной звериной силой саданул его лицом по ребристым стальным прутьям ограждения.
– Что ж, заходи, гость дорогой.
Однако за какое-то мизерное мгновение до этих броска и рывка в его левый бок в подбрюшину и выше, разрывая тело и внутренности зазубринами, вонзилась заточка – стальная длинная пика с набалдашником в качестве рукоятки, примитивнейшее, но каверзнейшее орудие чудовищных тюремных разборок и мести. Сергей, державший заточку в рукаве, с филигранной опытностью нанёс удар первым. Она намертво застряла в теле Льва между рёбер, – не вынуть просто; и до того глубоко вошла, что и набалдашника не заметно, – умялся в складки куртки. Но внешне – всё то же, всё так же. И крови не хлынуть, даже, видимо, и просочиться ей не сейчас.
– Я же сказал, проваливайте, – успел вымолвить Лев ещё, и его жизнь – сломилась.
Силы гасли стремительно. В коленях подсекло, перед глазами качнулось. Но на ногах он устоял, продолжая свою непримиримую борьбу, но уже не с жизнью и людьми, а со смертью и судьбой.
Не понимая, что с ним происходит, зачем-то повернулся лицом к дому, – угадал Марию за тюлью: как в дымке она. В дымке времени, судьбы, его души и разума. Или как с облачка смотрит уже ангелом, приветствуя из горних далей. Как же ты будешь без меня? Понял мгновенно и пронизывающе: нельзя напугать её. Улыбнулся ей, покачнул головой: мол, не бойся ничего, я уже иду к тебе. Смотри: я шагнул, ещё раз шагнул. Иду, просто иду, иду как все люди. Встречай меня, любимая! Скажи мне, что хотела сказать. Порадуй или рассмеши, подцепи меня – будь самой собой, какою я и люблю тебя.
Продвигаясь к дому, расслышал рыкающие слова Петра:
– Ты этой чёртовой острогой разорвал ему всю нутрянку. Он вот-вот умрёт. Ты что наделал, недоумок!
– Заткнись, братка, а то и тебя пришью: у меня в кармане ещё нож припасён.
Лев не остановился – скорее, скорее к Марии. Запереться, защитить её, отбиваясь от людей чем и как придётся. Теперь о ней, только о ней думать; а о себе думать – это тоже, что и о ней. Сказали, умру? Нет, не умру… если она выживет!

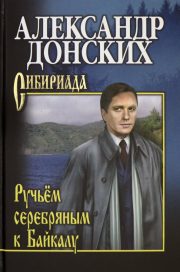
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!