«Как жить?» – холодным, но вёртким змеёнышем наползал вопрос.
«Хватит вопросов! Надо когда-нибудь начать жить, просто жить. Просто жить! Как легко и приманчиво звучит – просто жить! Просто! Жить!..»
58
Позади лето, чудесное, жаркое, прошедшее в трудах и любви. Лишь во второй половины сентября дохнуло из распадков стужей и сорвались с небес, точно с привязи, дожди. Стало слякотно, серо, смятенно. За окнами метались и бились ветви деревьев, несло и кружило листву и былинки, пеплом сеялся снег; природа, возможно, навёрстывала и по своим скверным проявлениям, являя характер. Однако в доме Льва и Марии мир, тишина, деловито пощёлкивали электроболеры, таинственно шуршала в трубах горячая вода, нередко растапливался камин, золотисто-солнечно светились деревянные стены в комнатах, ультрамариново пробивался из дали туманов родной Байкал. В сердце Марии и Льва – чуткий, порой насторожённый покой, осознанная уравновешенность: та ссора у камня озадачила и даже напугала обоих, и они поняли – надо жалеть друг друга.
Мария уже студентка, и хотя студентка-заочница, заушница, слышала она, как дразнят таких студентов, но – столичной финансово-экономической аж академии. Она горда, что все экзамены сдала на высокие баллы, что поступила честно, без дураков, и полагает, что отныне уже совсем, уже окончательно и бесповоротно взрослая. Она за лето заметно подросла, поздоровела, в ней почти что уже сгладилась угловатая мальчиковатость, и она не по дням, а по часам становилась видной, красивой девушкой, лебёдушкой, девицей красной, – обращался к ней с ласковыми прозвищами Лев. Была прекрасна для него её маленькая, статуэточно изящная фигурка на тонких ножках, с тонкими ручками, с тонкой шеей, с тонкими пальчиками, с тоненькой талией. Но при этом Мария была сильна и крепка, никакого жеманства никогда не выказывала, не манерничала, не привередничала перед Львом, лишний раз подчёркивая свою хрупкость. Она была трогательно женственна, она вся была для него прелесть и идеал, и он блаженствовал, глядя на неё, общаясь с нею, думая о ней. И по-прежнему Льва особенно радовали и тешили глаза его Марии, приметливые, голубовато-бархатистые, но при этом напряжённо-ироничные, готовые прыснуть насмешкой и весельем. Они оставались для него глазами-радугой, глазами, являющими многоцветье её чувств, её мыслей. Возможно, эти чувства и мысли она пока ещё не может в полной мере выразить, но они уже правят её сердцем, а значит, был уверен Лев, и её и его судьбой. Когда Лев носил Марию на руках, а носил он её каждый день, часами не опуская, то ему минутами представлялось, что за его спиной схватывались крылья, и он сам себе казался невесомым. Стоит слегка оттолкнуться от земли – и вместе полетят, вознесутся. Он знал и радовался – это его сердце становилось лёгким, податливым, добрым, настоящим, всецело открытым для счастья, для их единой судьбы, которую он столь долго и мучительно ждал.
Что ещё необыкновенного произошло в Марии за лето? У неё отросли прекрасные взрослые волосы; Лев уговаривал её не обрезать их. Они казались ему, очевидно по подобию с её чародейными глазами, разноцветными, многокрасочными, радужными. Они раскидисто длинные, шелковисто тоненькие; и хотя каштаново-белёсые, но в искристой рыжине, будто посыпаны блёстками или сами источают блеск и сверкание. И шикарно курчавились, причём разнообразными завитками: и крошечными кокетливыми завитушками рассыпались на лоб, и крупными томными локонами ложились на плечи и грудь. А уговаривал Лев не обрезать потому, чтобы она была с косой, с настоящей косой, говорил он ей, русской красавицы. Мария поначалу не раз восставала, требуя остричься, называя такие волосы проявлением отстоя, деревенщины, лохини и даже дебилизма, однако Лев был неумолим, но неумолим с нежностью, с щепетильностью, с виноватостью какой-то. Нередко сводил к шуткам её страстное стремление быть как все: плешивенькой, говорил он ей, облезлой кощёнкой, кривлячкой, и как ещё не дразнился, придумывая смешные прозвища. Она притворно сердилась, отталкивая его, притопывая ногой, «но возможно ли скрыть сияние души, если глаза открыты!» – восторгался своей возлюбленной многоопытный, но по-прежнему и нередко юношески восторженный в своих чувствах Лев.
Они вместе заплетали и расплетали её волосы, и это становилось для них целым ритуалом вечером, когда расплетали и расчёсывали, и утром, когда, наоборот, расчёсывали и заплетали. Мария чувствовала – Лев по-особенному любуется ею с косой, что только с косой он считает её по-настоящему красивой, и она потихоньку примирилась, что у неё несовременные – обидных слов она уже не хотела употреблять – волосы, а через некоторое время так и желала, чтобы коса стала и толще, и длиннее. «Пусть будет как у мамы в её юности, на той девичьей её фотке», – порой с грустнотцой вздыхала она, мимолётно вспомянувши мать, отца и всю прошлую свою жизнь.
Началась учёба, подготовка к осенне-зимней сессии – каждодневное штудирование учебников с подробными конспектированиями, выполнение контрольных работ, решение задач, построение графиков и так далее и так далее. Куратор её, аж сам Лев Павлович Ремезов, как порой восклицала она в себе, был строг и бдителен, самолично проверял выученное и написанное, нагружал математическими задачами повышенной сложности, – не списать, не подсмотреть куда-нибудь. Во время занятий он требователен, сух, бывает даже язвителен. Ничего поддельного, никаких поблажек. Часть предметов она проходила интерактивно, дистанционно – с помощью образовательного сайта, получая платные консультации от ведущей профессуры страны. Несколько предметов преподавал Лев: он – математик, статист, экономист и ещё кто-то, и даже в английском разбирается отменно. Мария дивилась его познаниям, робела не на шутку, слушая его или отвечая выученное.
Когда же покончено с занятием – он по-прежнему нежен, податлив, раним. Мария про себя называет его ручным зверем, но не злоупотребляет своим влиянием на него. Напротив, она обходительна с ним, однако тайно ей хочется быть равной ему. И для неё очень, очень важно быть равной ему, она не хочет болтаться возле него какой-то там неравной ему по годам и развитию девицей, ученицей и вообще непонятно кем! Но Мария неуверенна, ей кажется, что она не умеет проявить себя перед Львом так, как, думается ей, могут и способны взрослые женщины проявлять себя перед своими мужчинами. Её огорчает и зачастую терзает, что она всё же ещё не совсем взрослая и что даже не умеет хотя бы притвориться взрослой, а значит, он не может принимать её за равную себе. Лев носит Марию на руках, порой шутливо баюкая, – ей кажется, что он не понимает, что она уже давно не грудной ребёнок. Он говорит ей ласковые слова, при этом утончая голос, – ей кажется, что он сюсюкается с ней. Он, бывает, уступает ей в споре, снисходительно усмехнувшись, – ей кажется, что он принимает её за дурочку. А то, что он строг с ней на занятиях, – да разве может любящий этак вести себя с любимой? Она зачастую впадает в отчаяние: мыслимо ли для неё стать равной ему!
Случается, в минуты крайнего раздражения, недовольства Мария спрашивает себя, любит ли она его. И тут же отвечает, что любит, конечно же, любит, не может не любить, потому что он красивый, сильный, умный и обожает её. И на его обожание, конечно же, невозможно не ответить привязанностью, нежностью, любовью. Но Марию смущает, что на этот свой тайный вопрос она отвечает торопливо, и задумывается: а не пытается ли она ускользнуть от какого-то своего внутреннего голоса, который хочет и может сказать ей что-нибудь другое, – нежелательное, неприятное для неё?
Иной раз – внезапный, будто чьё-то нападение, вопрос её души: а любит ли он её? Может, она для него всего-то какая-нибудь игрушечка-зверушечка, пушистый котёночек, с которым ему захотелось поиграться, а надоест – выбросит? И Марии представляется, что надо как-нибудь этак хитренько проверить Льва: точно ли он любит её, точно ли, как он беспрестанно говорит, она единственная для него, что она судьба его, жизнь его. Но как проверить? Ах, знать бы, как проверяют взрослые женщины! И она ничего не могла придумать лучшего, кроме как время от времени капризничать перед ним, даже привередничать до издёвочек. Могла неожиданно и дерзко повелеть ему: принеси-ка то, унеси-ка это. Он, улыбчиво хмурясь, внутренне скрипя, выполнял.
Случалось, вскрикивала, словно бы ужаленная:
– Отстань от меня!
Он терялся, даже пугался, ему становилось не до улыбок, он страдал. Но рассердиться не позволял себе на свою принцессу. Он думал: потому Мария капризничает, что ей, живой, деятельной, любящей общество, шум, смех, уже невыносимо скучно, неинтересно в этой глуши, вдвоём, всегда вдвоём. И старался всячески развлечь её, подозревая и свою немалую вину, и не желая ссор, и чураясь омрачать свою и её душу, и памятуя о том дне, когда она упрекала его за нелюбовь к людям, к общению.
Однако развлечений, после ежедневной учёбы и нескончаемых хозяйственных дел, бывало немного, и главное из них и обоими любимое – дальние прогулки по тайге и горам. Взбирались на скальники, рыбачили в озёрах и реках, заночёвывали в зимовьях, снимали фоторужьём, выходили к Байкалу. В походах Мария вновь становилась тем же прелестным, остроумным, любознательным, чутким, ласковым человечком. Она бывала очарована природой. По-особенному на неё влиял Байкал, в дали которого она любила подолгу смотреть, пытливо всматриваться. Становилась в такие минуты тихой, кроткой, потерянной. Лев не тревожил; сидел рядом, затаённый и восхищённый тем восхищением, которое испытывала его Мария.

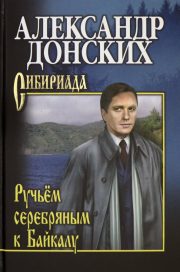
Мы восхищены! Роман захватывает и завёт в путь. История нетрадиционная, опасная, автора могут в невесть в чём обвинить, но роман при всё том чудесно хорош. он достояние русской культуры, хотя понимают это пока что немногие.
Согласна с предыдущим мнением. Раньше ничего подобного не читала — Ручей заворожил! И заставил заплакать так переживаешь за героев. Спасибо за чувства и эмоции!!!