Нет, если вернуться к разговору о мисс Фелисити, тут решение может быть только одно: разорвать эту связь. Доктор Грепалли по своему служебному положению находится in loco parentis[21]. Здешние дети, может быть, и старше его в добрых два раза, но все равно с каждым годом их ум становится все более инфантильным. Здравый смысл, как и тело, достигает какой-то высшей точки, а потом постепенно идет на спад. И со старым приходится обращаться так же, как с малым.
Доктор Грепалли пересек комнату и стал разглядывать картину Утрилло. Он признался себе, что, узнав ее стоимость, острее чувствует теперь, как она хороша. Сонный французский городок, залитый солнечным светом. Нигде ни одного человека, только каменные домики, и между ними выглядывают купы деревьев. Искусство способно угнетать. Но эта маленькая картина в золотой рамке не смущает покой, не оскорбляет взгляд. Тут, наверно, и секрет ее успеха, ее цены на мировом рынке. Отцовская выставка “Живопись душевнобольных”, устроенная после его кончины, успеха не имела. Из тридцати мрачных полотен были куплены три, да и те — родственниками. Но все-таки едва ли человечество понесет такую уж тяжелую утрату, если это светлое произведение искусства будет лежать в банковском хранилище, а не висеть на стене. Тут он заметил в просторном кресле съежившуюся человеческую фигурку. Это Клара Крофт, специалистка по “Гинденбургу”. Он рад, что помнит ее имя. Не так-то он оторван от своих пациентов, как утверждает сестра Доун.
— Разве вам не полагается сейчас находиться у себя в комнате? — спросил он нарочито ласково, потому что из ее расширенных глазах смотрел испуг и видно было, как на тощей шейке бьется жилка.
— Мисс Фелисити позволяет, — ответила Клара. — Если тут нет ее дружка. Я навещала доктора Роузблума, когда это был его номер. Тут хорошо. Но теперь он умер, а доктор Бронстейн в Западном флигеле, и не с кем словом перемолвиться.
— Можно будет пригласить к вам психотерапевта, — предложил доктор Грепалли. Но она покачала головой.
— Я и сама могу со дня на день очутиться в Западном флигеле, — сказала Клара. — Мне бы надо отправиться на тот свет, да не хватает духу. — И она заговорила о гибели “Гинденбурга”. Но понемногу речь ее замедлилась, прервалась. Взгляд устремился в приоткрытую дверь ванной.
— Там кто-то есть, — проговорила она.
Доктор Грепалли зашел в ванную. Никого.
— Это просто игра света, — сказал он. Но он заметил, что, вопреки его приказу сменить зеркало, в ванной по-прежнему висело старое. В стекле мелькнуло его собственное отражение, довольно непохожее, и он поспешил перевести взгляд. Опять сестра Доун со своей экономией! Кто не тратит деньги, тот и не зарабатывает. Неужели это так трудно понять? Он сердит на сестру Доун. Этот их консультант-психиатр почему-то только и знает, что ей поддакивает. Может, у них тайный сговор против него? Вдруг явится из-за кулис некая Моника Левински мужского пола. Надо впредь не допускать, чтобы сестра Доун принимала участие в собеседованиях с пациентами, назначенными к переводу в Западный флигель. Суд может решить, что ее диагнозы имеют характер личный, а не клинический. И не исключено даже, что ему придется прервать с ней отношения. Подумать только, он избегает и даже просто боится вызвать неудовольствие своей служащей. Ну не смешно ли?
— Причина была не в гелии, а в краске, — между тем рассуждала Клара Крофт. — Там была использована взрывчатая краска. На “R101” алюминиевый порошок пропитывали нитроглицерином — это все равно что порох, — так что, естественно, они взлетели на воздух; а “Граф Цеппелин” загорелся и упал, потому что его красили ацетатом целлюлозы. Потом вообразили, будто проблему решили на “Гинденбурге” с помощью бутирата, он менее горюч и не проводник. Но ошиблись. Бедные, бедные люди! Они бежали, бежали, сколько было духу, но так и не спаслись. Все умерли. Пора и мне к ним. Какое значение имеет все, что в промежутке?
— Мисс Крофт, — окликнул ее доктор Грепалли, — как фамилия президента Соединенных Штатов?
— Я знала вчера, а сегодня забыла, — ответила Клара. — И вообще, какой скучный вопрос.
И быстро-быстро побежала вон из комнаты на своих спичечных ножках, словно спасаясь от огня; но быстро у нее не получалось. Доктор Грепалли только пожелал ей не налететь прямо на сестру Доун. Это бы ей не простилось.
50
Мы с Гаем и Лорной приехали в “Золотую чашу” в шестом часу. Весеннее солнце клонилось к горизонту, и римские колонны отбрасывали поперек лужайки длинные элегантные тени. В этом тихом углу уже зацветали рододендроны и лавры — узкие розовые мазки на фоне темно-зеленой восковой листвы. “Золотая чаша” явилась нам во всей своей красе. На Лорну она произвела впечатление.
— Надо признать, — заметила она, — тут гораздо красивее, чем в мамином Туикнеме. Конечно, бабушка Фелисити богаче. Видишь? Колонны из настоящего мрамора.
Гай возразил, что это какой-нибудь декоративный пластик, но Лорна напомнила ему, что здесь Америка и скряжничество не в чести. Эта местность богата метаморфическими каменными породами. Гай, не сдаваясь, заметил, что она богата и сенаторами. Род-Айленд хоть и самый маленький штат, но тоже шлет в Конгресс двух сенаторов. Лорна сказала, что раз они сенаторы, значит, должны быть в Сенате. Чарли смотрел на них из машины и в сравнении с ними казался персонажем цветного трехмерного фильма со стереозвуком Dolby Digital, а они — европейского черно-белого с субтитрами.
В номере у Фелисити в проеме открытой стеклянной двери я увидела за вздувающимися шторами мужской силуэт. Неужели это и есть хитроумный мистер Уильям Джонсон? Но выяснилось, что это доктор Грепалли, а мисс Фелисити блистает отсутствием. Мне даже в голову не пришло, что ее не будет дома. Казалось бы, восемьдесят три — такой возраст, когда можно рассчитывать, что человек более или менее сидит на месте. Но нет.
Доктор Грепалли вышел нам навстречу чуть ли не с распростертыми объятиями. Я представила ему Гая и Лорну как внуков Фелисити. В подробности вдаваться не стала.
— Какая жалость, — вздохнула Лорна. — Она ведь знала, что мы приедем. Я думала, она сидит и ждет нас. Так же вела себя и наша мать. Я сначала обижалась, но потом выяснилось, что это болезнь Альцгеймера.
— У нас в стране мы этим термином больше не пользуемся, — сказал доктор Грепалли. — У данного заболевания слишком много разновидностей.
— Старческое слабоумие есть старческое слабоумие, — пожал плечами Гай, а доктор Грепалли с бестрепетной улыбкой сообщил, что, по его сведениям, мисс Фелисити уехала в казино со своим другом, но нас он приглашает остаться. Он запишет нас у дежурной при входе, и нам принесут закуску.
Гай вытаращил глаза:
— В казино? Где играют в азартные игры? Старуха на девятом десятке? И вы это допускаете? Мне кажется, у нас в Англии такого не бывает.
Я поморщилась. Гай подошел к картине Утрилло и стал рассматривать ее с такого близкого расстояния, что мне стало страшно, как бы его ядовитое дыхание не отравило краски.
А Джозеф Грепалли мягко заметил, что, насколько ему известно, права человека в обеих странах примерно одинаковы.
— Человека в случае надобности, для его же блага, можно и даже должно посадить под замок, — не отвлекаясь от своего занятия, отозвался Гай. Он достал из кармана лупу и принялся всматриваться в живопись дюйм за дюймом. — В особенности старушек, которые впали в отрочество и водятся невесть с кем. Мне ли не знать, то же самое произошло с моей родной матерью.
— Вы бы достигли полного взаимопонимания со здешней старшей сестрой, — сказал доктор Грепалли.
— Надо будет мне с нею познакомиться, — отозвался Гай. — Но, как бы то ни было, моя бабка, с формальной точки зрения, не является гражданкой Соединенных Штатов. Она, кажется, где-то в сороковых годах зарегистрировала брак с американским военнослужащим, но в это время уже была замужем, причем всего несколько месяцев, так что на забывчивость сослаться не может. Я думаю, двоемужество — всюду двоемужество, и у нас и у вас, и все последующие браки рассматриваются как не бывшие. Любопытная юридическая тонкость.
Доктор Грепалли вежливо кивнул и, не желая вмешиваться, вышел.
— Ах, Гай! — пискнула Лорна. — Ты же обещал молчать, пока я не сообщу Софии.
— Фелисити — наша общая бабушка, — возразил Гай. — И у меня столько же прав наводить справки, сколько у Софии. “Аардварк” ей не принадлежит. И видит Бог, я заплатил Уэнди достаточно.
Но Уэнди как раз принадлежала мне. Это я ставила перед ней вопросы и отматывала тонкую нитку полученной информации, насколько считала уместным, играя с судьбой, как с рыбкой на крючке. А тут вмешался Гай и просто швыряет в воду динамит. Как же это Уэнди так поступила со мною? Разве тут нет конфликта интересов? Хотя, наверно, нет. Во всяком случае, на взгляд Уэнди. Мы — одна семья, что тот внук, что этот. Я могла бы обвинить ее разве что в недостаточном чистосердечии. Но почему она должна все мне выкладывать? Если человек работает, извиваясь и скользя на грани легальности, точно змея на запястье у заклинателя, он всегда будет осторожничать и недоговаривать. Почему же надо ждать, что с тобой он будет вести себя иначе? Просто потому, что ты — это ты?
Я просила Уэнди разузнать подробности о моем деде — гитаристе и певце и передала в ее руки то, что успела о нем узнать. Но денег не заплатила, сказала, что пусть подождет браться за дело до моего возвращения из Штатов. С Гаем и Лорной я тоже поделилась: сведения эти мне достались даром, поэтому ими можно было распорядиться по своему усмотрению. Вот они и распорядились успешнее, чем я. Я, выросшая среди художников и гуманитариев, сразу же непроизвольно отступала, если чувствовала, что речь пойдет о чем-то, чего я не хочу знать. А Гай и Лорна, получившие подготовку в другой профессиональной среде, он — в адвокатской, она — в естественно-научной, интересовались фактами, независимо от того, приятные или неприятные выводы из них следуют.

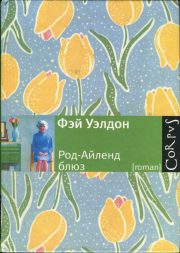
"Род-Айленд блюз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Род-Айленд блюз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Род-Айленд блюз" друзьям в соцсетях.