Фэй Уэлдон
Род-Айленд блюз
1
— Я древняя старуха, София, и потому имею право говорить правду. — На удивление юный голосок моей бабушки летел, прыгая по волнам Атлантики. — Мне никто не указ, терять мне нечего, бояться некого, так что пощады не ждите. Мне восемьдесят пять лет, что я думаю, то и говорю, это моя привилегия. А если кому-то мои слова не по нраву, считайте, что я впала в старческое слабоумие.
Моя бабушка Фелисити всегда говорила всем правду, сострадание к ближним ее не очень-то останавливало, но спорить с ней не было сил, я слишком устала и чувствовала себя виноватой, и уж тем более бессмысленно было уточнять, что на самом деле ей не восемьдесят пять, а всего восемьдесят три года. Фелисити звонила мне из своего белого, обшитого вагонкой дома на зеленом пригорке в окрестностях Норвича, штат Коннектикут, дома, где провода к колонкам музыкального центра были заранее проложены под полом, где исполинских размеров холодильник был до отказа набит яркими, безобразными пакетами с едой быстрого приготовления, заманивавшей пониженным содержанием того, сего, пятого, десятого, а я выслушивала ее упреки в тесной квартирке кирпичного дома в Лондоне, в Сохо. Ее голос отзывался эхом в пустых, просторных, с паркетными полами комнатах дорогого, стильного, томящегося одиночеством дома, двери которого она не запирала, окна не занавешивала — их черные квадраты глядели в еще более густую черноту ночи, и кто поручится, что там не затаились убийцы с топором. Мой голос никаким эхом не отзывался здесь, в центре Лондона, комнатки маленькие, заставлены мебелью, на окнах решетки, плотные шторы лишь слегка приглушают шум, который устраивают по ночам голубые, когда выходят из своих голубых баров внизу и перемещаются в клубы для голубых же. Здесь я чувствую себя в куда большей безопасности, чем у Фелисити на ее зеленом пригорке среди стриженых газонов. В квартире подо мной трудится проститутка, она перехватит малейшее проявление сексуальной агрессии, случись ей вдруг прорваться в подъезд; а этажом выше работает дизайнер-график — беспощадная требовательность к себе, дисциплина и высокий профессионализм, которые, как мне хочется думать, просачиваются вниз ко мне.
По лондонским меркам я живу в модном, дорогом и престижном районе. До работы можно дойти пешком, и я это ценю, хоть и приходится прокладывать себе путь сквозь развеселые толпы зевак и извращенцев, а тугие попки охотниц и охотников за сексом вызывают такую же досаду, как необъятные зады глазеющих туристов. Вывести бы из них среднее арифметическое, превратить в нормальных, занятых нормальным человеческим трудом добропорядочных обывателей. Но тогда это все равно что жить в пригороде, а для человека моего склада пригород — это погибель.
Устала я потому, что только что вернулась с работы и было далеко за полночь. А виноватой чувствовала себя потому, что прошло уже две недели, как мне позвонила бабушкина глухая приятельница и ближайшая соседка Джой — ближайшая в том смысле, что их большие одинокие дома находятся в пределах слышимости друг от друга, — и прокричала в трубку, что у Фелисити, которая живет одна, случился инсульт и ее отвезли в больницу в Хартфорд. А я как раз кончала монтировать фильм. Я монтажер на киностудии, и в работе над фильмом наступает такой период, когда монтажер перестает принадлежать себе: он просто не имеет права захворать, сойти с ума, иметь прикованную к постели бабушку. Джой позвонила именно в такой момент. Монтажер должен неотлучно находиться в монтажной, должен — и все тут, пусть хоть мир рушится. То, что ты делаешь, не может сделать никто. “Завтра” — художественный фильм, задуман как концептуальный, совместное производство английской и американской студий, огромный бюджет, знаменитый режиссер (Гарри Красснер), вокруг вьются тучи рекламных агентов, устраиваются конференции, предварительные просмотры, а я отчаянно барахтаюсь, пытаясь в последние минуты слепить какое-то подобие эротики на куцем метраже пленки со сценой совокупления двух подростков, которую актеры играли чуть ли не с отвращением. И я не полетела сидеть у постели больной бабушки, я просто забыла о ней — вспомню, когда обстоятельства позволят. И вот бабушка снова ворвалась в мою жизнь, у нее сейчас вечер, а у меня глубокая ночь, но она никогда не считается с разницей во времени, будто ее и не существует.
Я приготовилась дать отпор. Иногда между мной и Фелисити встает призрак моей безумной матери и останавливает поток родственных чувств, эта мрачная фигура напоминает мне родительниц, которые вдруг возникают будто из-под земли на проезжей части улицы возле школы и заставляют недовольных водителей остановиться под визг тормозов, чтобы дети могли перейти на ту сторону.
В детстве мне снился один и тот же сон: в нем моя мама выступала именно в такой роли, только на плакате, который она держала в руке, значилось не “Дети”, а “Во всем виновата ты, Фелисити”. Но я-то знала, что если она повернет плакат другой стороной, там будет мое имя и я прочту “София, виновата ты”. Мне всегда удавалось заставить себя проснуться до того, как я увижу этот ужас на обратной стороне. Да, ребенком я умела подчинять себе свои сны. Они мне повиновались. Наверное, потому меня и считают хорошим монтажером: не в том ли смысл моей работы, чтобы сдерживать чужую фантазию? Почти каждую ночь я принимаю снотворное, оно не пускает ко мне мои сны. Довольно с меня и тех, что я вижу днем, иначе недолго сойти с ума.
Оказывается, Фелисити выпустили из больницы в тот же день к вечеру, у нее была лишь слегка затронута речь, сейчас все полностью восстановилось, но я в то время ничего этого знать не могла.
— София, я хочу продать дом, — говорила она. — Пойми, я просто умираю с тоски. Все жду и жду каких-то интересных перемен, но, видно, все интересное в моей жизни уже произошло. Как ты думаешь, это возраст виноват?
Да уж, ожидать интересных перемен на девятом десятке, тем более что для большинства женщин эти перемены означают свалившуюся как снег на голову любовь, явно не стоит. Все когда-то кончается. Фелисити сказала, что думает переселиться в какой-нибудь кондоминиум, где живут старики. Я ответила, что вряд ли она окунется там в водоворот интересных событий, но она возразила: да, люди стареют, однако это вовсе не значит, что они теряют интерес к жизни. Она уже решилась, выставила дом на продажу, распродает разные мелочи на местных блошиных рынках, есть какие-то фамильные ценности, может быть, я захочу их взять, тогда пусть я приеду и возьму.
Я ощущала тягостное сознание ответственности, горечь вины, мучительную двойственность моего отношения к ней — словом, весь набор чувств, которые связывают нас с близкими родственниками. И оттого, что она моя единственная родственница, мне было особенно тяжело. Я ее люблю, просто мне хочется, чтобы она была где-нибудь далеко, не возле меня. А если проанализировать мое поведение поглубже, то выяснится, что дело обстоит и того хуже.
Проявив полное бесчувствие после звонка Джой и продолжая заниматься своим фильмом, хотя перед лицом смерти все, что связано с жизнью, следует отодвинуть на второй план, я в глубине души знала, что если Фелисити умрет, то исчезнет и проблема вины, навеки неразрешенная. Я буду просто я, существо из ниоткуда, продукт своего поколения, что ему прошлое, что история семьи и рода, наслаждайся жизнью сейчас и здесь, — новая лондонская культура dolce vita, как выражается великий режиссер Гарри Красснер.
Я, София Кинг, монтажер, провожу все свои дни в монтажной без окон, со скверным кондиционером, в мирном гудении компьютеров, но я свободна от прошлого. Насколько легче разбираться в сумбуре отснятого Гарри Красснером материала, чем в настоящей жизни. Там образы и сцены помогают найти начало, середину и конец, вывести мораль, а настоящая жизнь вся уведена в подтекст, нет никаких сколько-нибудь удовлетворительных объяснений, нет Судного дня, который бы расставил все по местам, Бог — всего лишь надолго отлучившийся монтажер, он слишком ленив и не желает утруждать себя осмысленной компоновкой кусков. Наверное, согласовывает сценарий похорон собственной бабушки.
Ходи к психоаналитику, проникай все глубже и глубже в собственное подсознание, сделай из своих снов сценарий — все равно никуда не деться от досадной нелогичности повседневной жизни. Кино мне кажется честнее действительности, ведь там она профильтрована камерой. Пусть даже Фелисити умирает, все равно она не должна вмешиваться в мою жизнь, как не вмешивалась до нынешнего дня. Возможно, ей сейчас тоскливо, но она окружена комфортом, покойные мужья оставили ей немалые деньги, на стене висит пейзаж Утрилло, есть соседка по имени Джой, которая так напористо кричала в телефонную трубку. Я вспомнила, как Фелисити бросила меня, когда мне было десять лет и она была моей единственной поддержкой и опорой, оставила свою дочь Эйнджел — мою маму — умирать одну и улетела домой, в Америку, даже на похороны потом не приехала. Как я сердилась на нее тогда, клялась себе, что никогда не прощу. Какая крайность, какое требование ее внутреннего монтажера так безрассудно вынудили ее отказаться от нас? Когда-то, маленькой девочкой, я любила свою бабушку простой, бесхитростной детской любовью, но этим поступком она превратила мою любовь в немое осуждение.
На маму он, конечно, подействовал еще сильнее, ее любовь перешла в ненависть, такое часто случается с душевнобольными, они могут вдруг возненавидеть родных, даже собственную мать или дочь, и это самое страшное, что может случиться в мире. У Эйнджел хотя бы было оправдание — она сумасшедшая, но Фелисити-то вроде бы в здравом рассудке.
И вот теперь она мне выговаривала:
— Ты не прилетела ко мне, не сидела возле моей постели в больнице, а ведь знала, что я, может быть, умираю. — И это в два ночи по лондонскому времени, в десять вечера по лонг-айлендскому. Но что ей за дело, разбудила она меня или нет? И какой смысл ворошить сейчас прошлое?

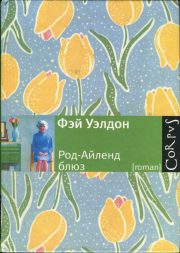
"Род-Айленд блюз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Род-Айленд блюз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Род-Айленд блюз" друзьям в соцсетях.