Семейный портрет, кабинетная фотография: Артур и Сильвия, любящие муж и жена, за руку матери держится малышка Фелисити, ей годика три, Лоис чуть заметно прижалась к Артуру, она словно бы оттеснила всех на задний план. Глаза в первую очередь останавливаются на ней. У нее хорошая фигура, это видно, стройные красивые ноги под нарядной, до колен, плиссированной юбкой, она пышет молодостью, короткие волосы завиты крутыми волнами, тяжелую челюсть можно и не заметить. У Сильвии милое усталое лицо, немного поблекшее, но храброе, она старше Артура, который улыбается счастливой открытой улыбкой, чуть отклонив голову от жены в сторону Лоис.
Фотография: семья на пикнике. Лоис и Артур полулежат на траве, прижавшись друг к другу, рядом сидит некрасивая малышка Люси, выставив перед собой ноги, чуть поодаль от семейной группы Фелисити плетет гирлянду из маргариток. Я тоже умею их плести, меня научила Эйнджел: нужно сорвать цветок, чтобы стебель был как можно более длинным, прорезать его ногтем большого пальца, вставить в прорезь стебель следующей маргаритки, в нем тоже сделать прорезь, и так далее. Наверное, Фелисити потом научила этому Эйнджел, а саму Фелисити, без сомнения, научила Сильвия, когда еще была жива. Вряд ли Лоис занимали такие глупости, как гирлянды из маргариток.
Еще одна газетная вырезка: Фелисити, совсем еще девочка, лет тринадцати, в балетной пачке, хрупкие руки грациозно подняты, она улыбается застенчиво и одновременно горделиво. Под снимком подпись: “Девочка из Лондона получила стипендию для занятий в Королевском балетном училище”.
— Она этой стипендией так и не воспользовалась, — сказала Лоис. — Ей не разрешили учиться. Мать сказала, что у балерин спина болит и ноги становятся слишком мускулистые. А вот я продолжала брать уроки, о моих ногах никто не тревожился.
Фотография: Лоис и Антон на ступеньках Национальной галереи, позируют уличному фотографу. Им слегка за тридцать, у Антона длинная, невыразительная физиономия, тяжелая челюсть Вассерманов, Лоис его копия, только в женском варианте, — совсем как Гай и Лорна. Они держатся за руки. Брат и сестра? Нет, скорее муж и жена.
— Эту я нашла в игольнице матери, уже после ее смерти, когда разбирала вещи, чтобы продать дом.
— Что такое игольница? — спросила я.
— А это такая стеганая полоска шелка, которую можно сворачивать. Раньше женщины шили себе одежду сами, так в них они втыкали иголки; внутрь можно было спрятать какую-нибудь дорогую твоему сердцу безделицу, в таком укромном месте никто твою тайну не откроет. Когда Антон стал с нами жить, в интернат отдали и меня тоже. Он торговал картинами.
Стоп-кадры (воображаемые): сцены из жизни Фелисити, они будут включены в сценарий фильма, который я мысленно пишу. Ночь. Семилетней Люси не спится; завернувшись в одеяло, она сидит у окна и смотрит в сад. Светит полная луна. Заснеженные ветви зимних деревьев склонились к каменной ограде. Восьмигранная застекленная беседка. По снегу крадется кот. Тлеет огонек сигареты. Дядя Антон стоит, прислонившись к стволу старой шелковицы; говорят, ей больше трехсот лет. На нем енотовая шуба, тогда такие были в моде. Задняя дверь дома открывается, в сад выскальзывает Фелисити. Ей четырнадцать лет, она думает, что она все в мире знает, и она влюблена в дядю Антона. Люси дразнит ее этим, а Фелисити краснеет и говорит: глупости, ничего подобного. Он говорит, что увезет ее отсюда, он уезжает в Австралию, и она тоже поедет с ним. Ему предложили работу в Национальной галерее искусств, она поступит в балетную труппу оперного театра в Сиднее. На Фелисити что-то темное и блестящее, это выдровое манто Лоис; ее полудетское тело едва сформировалось, такое худенькое от нескончаемых балетных упражнений; она босиком и все время пританцовывает, чтобы не замерзли ноги. Ее рыжие кудри взлетают в воздух, они словно светятся в лунном свете. До Люси доносится шепот. Что она слышит? Что говорит Фелисити? “Я люблю тебя, я люблю тебя”? Публика эти слова точно слышит, она всегда ждет и боится их услышать. Рука Антона сжимает ее маленькую грудь, крепкую юную попку… Фелисити дрожит. Она никогда ничего подобного не испытывала, происходит что-то непостижимое и огромное. (В сущности, нам не так уж и нужно, чтобы сцена шла через восприятие Люси, девочка понадобилась лишь для затравки. Итак, вырезаем Люси.) Мы смотрим на Антона и Фелисити своими глазами, следим за каждым их движением. Вот он целует ее, а она отстраняется. Но он для нее высшая власть, в его руках ее жизнь. У нее нет никого в мире, кроме Антона, только Лоис, а от Лоис можно ждать чего угодно, она жестокая и злая, может оставить ее нищей, лишить дома, семьи. Но даже Лоис слушается Антона. Он снова целует Фелисити, и на этот раз она покоряется. Он протискивает язык ей в рот, ей неприятно, это слишком интимно, она хочет вырваться, но он крепче прижимает ее к себе, его руки поднимают ее ночную рубашку, что-то твердое упирается ей в живот — господи, что это? Он втаскивает ее в беседку и укладывает в плетеный шезлонг, который там зимует. Теперь она оказывается на спине, он сверху, его колено раздвигает ее ноги. Ей страшно, она начинает кричать, он от ее крика приходит в ярость. “Сучка, — шипит он, — ты сама меня заманила. Ты отлично знала, что делаешь”. Его рука зажимает ей рот, она кусает руку. Теперь его не остановить, он возьмет реванш. Дальше даем сцену дальним планом. Ужас, который случился потом, вам известен.
Возвращаемся к Люси. Из беседки несутся стоны и крики, Люси их слышит и смутно понимает: там происходит что-то страшное. Что ей делать? Позвать мать?
Нет, мать звать нельзя, все станет еще хуже, она это знает, хоть и не знает почему. Из беседки выбегает Фелисити, шубки на ней нет, ночная рубашка в пятнах крови. Потом появляется и Антон. Он закуривает сигарету и, привалившись к стволу старой шелковицы, с удовольствием затягивается, ему так хорошо, тепло в енотовой шубе.
— Все было так обыденно, в порядке вещей, вот что страшнее всего, — говорит Люси мстительно через семьдесят лет. — Он небрежно курил и любовался полной луной, получая одинаковое удовольствие от сигареты и от луны, такое же удовольствие он только что получил от Фелисити, не больше.
На следующее утро за завтраком Фелисити не поднимает на Антона глаз. Он бодро входит в столовую, насвистывая, с аппетитом поедает печенку, ветчину и сосиски, требует, чтобы Фелисити тоже ела, потом, как бы между прочим, бросает: да, кстати, он все-таки решил не ехать в Сидней.
— Мать просто расцвела от счастья, когда он это сказал, — говорит Люси. — А Фелисити потеряла сознание. Вызвали доктора, он объяснил, что ничего страшного, просто нервы. Антон снова стал обращаться с ней как с маленькой девочкой, и скоро ее опять отослали в интернат.
Месяца через четыре Фелисити стала болеть и сильно поправилась, она не понимала, что с ней. Когда Лоис увидела ее изменившуюся фигуру, она набросилась на нее с кулаками и открыла ей грубую правду жизни, то есть объяснила, что от связи с мужчиной рождаются дети. Фелисити — нравственный урод, визжала Лоис, грязная, омерзительная распутница.
— Если все и вправду так, как вы говорите, значит, отец ребенка — Антон, — ответила Фелисити.
Разразился грандиозный скандал. Антон заявил, что он тут ни при чем, как можно до такого додуматься, и потешался от души. Фелисити — дрянная потаскушка, чего от нее еще и ждать. Он видел, как она тайком выходила ночью из дому, да еще в выдровой шубке Лоис. Одному богу ведомо, с кем она путалась. Жила со слугами, вот и переняла их повадки. Сейчас вон залетела с ребеночком и врет — хочет выкрутиться. Хитрая, пронырливая тварь.
Фелисити не верят, как она ни бейся. Лоис выгоняет ее из дому, выталкивает пинками за порог, озверев от бешенства. Ее везут на такси в Общество призрения незамужних матерей, это в Блумсбери, на Корам-стрит, и оставляют у двери на крыльце, как будто она бездомный ребенок, а не всеми брошенная мать. Фелисити некуда идти, она садится на ступеньки и начинает думать, что же с ней теперь будет, а вечером ее берут под свое попечение монахини, которые держат приют для матерей с незаконнорожденными младенцами. Она будет отрабатывать свой хлеб. Здесь Фелисити проживет до родов, ей не позволяют выходить за стены приюта, дабы не смущать других, она будет молиться три раза в день, чтобы Господь ее простил, голодать, холодать, на ночь ее будут запирать. Приют существует при монастыре, и Фелисити поручают мыть длинные, выложенные плиткой полы коридоров, по которым безгрешно ступают чистые, целомудренные ноги высоких духом и давших обет безбрачия. Фелисити согласна с приговором, который вынес ей мир: только на эту роль она и годится. Иногда она мечтает, что вот придет Антон и вызволит ее, но редко, очень редко. Она живет среди девушек и женщин от двенадцати до сорока лет, и все они беременны, но ни одной не удалось выйти замуж. Одни всего лишь просто растерянны, другие раздавлены совершенным над ними насилием; есть тут и проститутки, которым не удалось вытравить плод. Кого-то выгнала из дому семья, у кого-то никогда никакой семьи не было.
Фелисити — одна из тех, кого судьба сокрушила. На нее словно нашел столбняк, но скучное, однообразное течение дней, принудительные покаянные молитвы, неуклонный рост ребенка в ее чреве дают ей возможность оправиться после всех потрясений, что ей пришлось пережить, а ведь она и сама не знала, как подорваны ее силы. Сначала смерть матери, потом отца, в промежутке между их смертями появление злой мачехи: в радостную, безмятежную жизнь неожиданно ворвались жестокость и злоба, Фелисити поняла, что Бог вовсе не добр, и все это ей удается осмыслить и принять за недолгие пять месяцев. Сначала она много плачет, как все и ожидали. А так ничего особенного за это время не происходит. (Как показать значимость этого “ничего особенного”? Нелегкая задача для режиссера, кто бы он ни был.) Фелисити начинает что-то понимать в жизни.

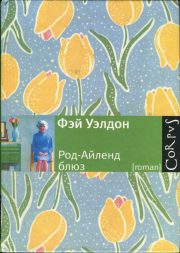
"Род-Айленд блюз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Род-Айленд блюз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Род-Айленд блюз" друзьям в соцсетях.