София сонно буркнула “алло”, но, услышав бабкин голос, сразу проснулась:
— Фелисити! Что случилось?
— Почему тебе всегда кажется, что у меня что-то случилось?
— Потому что в пять утра просто так никто не звонит, значит, человеку нужна помощь. — Шепот Софии летел вверх, к спутнику, падал вниз и на том берегу Атлантики превращался в шелест. — Подожди минутку, я подойду к другому аппарату.
— Зачем? — спросила Фелисити. — У тебя кто-то есть?
— Что за глупости.
Конечно, у нее был Красснер, длинные пряди его волос разметались на полосатой подушке, по странной случайности повторяющей бело-розовое чередование на обоях “Атлантического люкса”. Холли отказалась приехать к нему в Англию. “Здравствуй, завтра!” вышел на экраны и через два месяца сошел, критика фильм похвалила, в больших городах он имел успех, в провинции не слишком, но в общем обещал окупить затраты. Его напечатали на видеокассетах скорее, чем предполагалось, так что недобор в кинотеатрах возместится за счет аудитории у домашнего камелька. Нельзя сказать, что фильм принес Красснеру бешеный успех, однако ж и урона его репутации не нанес. Он по-прежнему мог капризничать и привередничать, выбирая следующий проект. Гостиницы он терпеть не мог, а от квартиры Софии можно дойти пешком в любое место, куда ему надо попасть. Лондонские такси он тоже не выносил: у них варварская подвеска, и к тому же сначала надо вылезти из машины, а потом уж платить таксисту, у таксистов, видите ли, спина болит, если они поворачиваются к вам. У Софии не хватило духу протестовать, что ж, раз ему так удобно, пусть так и будет. Он был ей благодарен, внимателен и не играл в эмоциональные игры. Она знала, что все это ненадолго. Он был по-детски домашний и все умел. Приносил ей аспирин, когда у нее болела голова, находил куда-то запропастившиеся перчатки, покупал фрукты и всякие вкусности в дорогих магазинчиках Сохо и ставил перед ней; в любви был властный и нежный, хотя всегда казалось, будто он думает о чем-то другом. Подруги ей завидовали. Гарри Красснер, великий режиссер! Она находилась в промежутке между фильмами, один фильм она кончила, другой еще не начался, и она была счастлива, паря в невесомости между нынешней фантастической реальностью и следующим фильмом-фантазией, который ей предстоит делать. Гарри все это понимал. Он сказал, что проживет здесь до марта, пока София не вернется в студию, а он тогда полетит в Лос-Анджелес, сейчас пока у Холли все равно съемки.
Нынче не такая уж редкость приспосабливать личную жизнь к профессиональной. Все, кого она знала, так поступали.
12
Я взяла с постели одно из одеял и прокралась на цыпочках в гостиную, чтобы спокойно поговорить. Гарри, чье тело лишилось ощущения привычной тяжести, поплотнее закутался в оставшееся одеяло, но не проснулся.
— Пора тебе кого-то завести, — сказала Фелисити. — Я чувствую, что долго не протяну. Одна-единственная внучка — это же курам на смех. Здесь, в “Чаше”, у некоторых чуть не по двадцать.
— По-твоему, это достаточно убедительная причина, чтобы рожать детей? Я так не считаю. — Я подумала, что если бы я захотела ребенка, то могла бы родить его от Красснера. Просто и спокойно, обманным путем. При нынешних тестах на ДНК можно добиться, чтобы он всю жизнь его содержал. Только разве я осмелюсь? Никогда. Тут вступят в действие могущественные силы, таким, как я, с ними не тягаться. Простым смертным не подобает дразнить сошедших с Олимпа богов. Его ребенок был бы огромным, волосатым созданием, такого не назовешь младенцем, он появился бы на свет, уже умея ходить и говорить, и ничего-то в нем не было бы от меня, ни единой черты. Тема детей от нашего с Гарри союза никогда не обсуждалась. Само собой подразумевалось, что я рациональная, трезвомыслящая коллега по бизнесу. Естественно, я принимаю меры предосторожности. И я их, естественно, принимала.
— Может, ты и права, — отозвалась Фелисити. — Согласна, качество важнее количества. Чем больше в семье детей, тем меньше им достается красоты и ума, и так поколение за поколением. Достоинства сходят на нет, недостатки вроде чуть скошенного подбородка доходят до полного уродства. Нет, пожалуй, София, тебе ни в коем случае не стоит иметь детей. Кровь в нашем роду не слишком хорошая.
Спасибо, Фелисити, огромное спасибо! Возможно, шизофрения и в самом деле наследственное заболевание, возможно, ее ген и вправду очень силен, хотя некоторые это отрицают, и я, конечно, хочу, чтобы они были правы. Я не обрадовалась, что Фелисити мне напомнила об этом, но я и сама боюсь рисковать: родишь ребенка, а он будет ненавидеть меня, как Эйнджел ненавидела Фелисити. Когда человек переходит от любви к ненависти с такой же легкостью, с какой комфортабельные отели выключают отопление и включают кондиционеры, окружающие теряются и страдают. Чем больше заботы было в любви Фелисити к Эйнджел, тем яростнее Эйнджел ее отталкивала и тем больше боялась. В материнской заботе дочь видела желание подчинить ее своей воле, поданный на стол обед означал попытку отравить ее. Эйнджел была убеждена, что это из-за Фелисити мой отец-художник ушел из дома, она во всем виновата, а вовсе не Эйнджел, которая вдруг решила, что секс несовместим с искусством, когда же стало ясно, что картины, которые он пишет, не могут сравниться с полотнами Пикассо, — да и кто стал бы этого ожидать? — она перекрестила его в Мазилу. (Вообще-то его звали Руфус, что само по себе не подарок.) Но нет, по мнению Эйнджел, Фелисити вмешивалась в их жизнь: она платила за его холсты, покупала ему краски, чинила нашу крышу, делала все, что могла. Обвинения так и сыпались: Фелисити должна всех подчинить себе! И так далее и тому подобное. Совсем маленькой девочкой я уловила в маминых приступах безумия хитрый умысел: безумию многое позволено, оно дает тебе право ненавидеть, делать гадости, издеваться над людьми и при этом ни за что не отвечать, ответственность за тебя несут другие. Главная цель — причинить другим как можно больше зла и горя, оставаясь при этом невинной жертвой. И все же я восхищалась тактикой Эйнджел. Я от нее не слишком страдала, вот Фелисити приходилось ох как несладко. Для ребенка мать со всеми ее чудачествами — нечто само собой разумеющееся: мать всегда защитит ребенка. Злоба Эйнджел, ее бешенство и издевательства редко обрушивались на меня; я лишь однажды почувствовала, что это за ужас, когда она решила, что меня подменили, и отдала в интернат. Накануне вечером, перед тем как везти меня туда, Эйнджел пришла ко мне в комнату, сказала, что я отродье дьявола, меня прислала вавилонская блудница, чтобы шпионить за ней, и хотела задушить меня подушкой. Жутковатая история. Но такое случилось всего один раз, это самое страшное, что мне пришлось испытать. А до того мы с Эйнджел жили нормально, временами с нами жил и Руфус. Мазила.
Когда мне было восемь лет, она решила, вопреки полному отсутствию доказательств, что у меня завелись вши, и обрила наголо тупой бритвой Мазилы, а потом три месяца не пускала в школу. Я была очень довольна. Брала в библиотеке книги и читала их целыми днями, валяясь на кровати, ходила каждый день в кино, иногда по два раза в день — в субботу и в воскресенье. Голову я повязывала косынкой. Часто со мной ходила Эйнджел. Так мы и жили. Школа не обращала на нас внимания. Думаю, там были рады, что Эйнджел не приходит забирать меня у ворот школы. Она иногда так странно выглядела и вела себя тоже странно. Волосы, которые сначала были у меня прямые и жидкие, после бритья наголо выросли густые, жесткие и кудрявые, как у мамы, из-за них-то Красснер и обратил на меня внимание. Я была благодарна судьбе. Если Эйнджел однажды решила, что мы с ней по нравственным соображениям должны жить на улице, какое до этого дело социальным работникам? В тот раз меня отобрали у Эйнджел из нашего с ней картонного ящика под арками вокзала Кингс-Кросс (мы жили в северной части Лондона), и я несколько месяцев прожила в семье, взявшей меня на воспитание; в конце концов мама помирилась с Руфусом и смогла забрать меня домой. В картонном ящике нам жилось отлично. Стояло лето, мы ходили в отель “Риц” и стирали там в машинах свои вещи. Эйнджел всегда очень красиво одевалась, туалеты она крала в магазинах, если ей что-то понравилось. Ели мы в дорогих ресторанах, а потом удирали. Семья, которая взяла меня на воспитание, покупала мне старье, собранное разными благотворительными организациями, и кормила высохшими бутербродами. И когда я наконец вернулась домой, вши у меня в голове были настоящие, а не выдуманные. А Руфус опять исчез.
Однажды я пришла из школы и увидела, что Эйнджел яростно колотит подушку, в ней, сказала она, сидит дьявол; в воздухе кружатся перья, совсем как снежинки в “Снежной королеве”. Я испугалась и позвонила Фелисити в Саванну. На следующий день, когда перья уже растаяли, а дьявол улетел, в наше полуразрушенное жилище ворвалась закутанная в шарфы и шали бабушка, она причитала, носилась по квартире, приводила психиатров, социальных работников. Если бы я ей не позвонила, наверное, мы с мамой продолжали бы спокойно жить. Сознание у нее то помрачалось бы, то прояснялось, она пекла бы пироги и громоздила баррикады, чтобы в дверь не вошел владелец дома; носила бы плакаты с разными требованиями на Даунинг-стрит; заходила бы в модные рестораны и била там тарелки в знак протеста против убийства телят — задолго до того, как стало модным защищать права животных, и ничего бы со мной не случилось. Еще какие-нибудь двадцать лет — и Эйнджел можно было бы спасти, ведь сейчас есть лекарства, которые удерживали бы ее от срывов и позволяли быть более или менее такой, как все. И у меня по-прежнему была бы мама.
Последние осмысленные слова, которые я услышала от Эйнджел после того, как врачи объявили, что она представляет угрозу для себя и для общества, накололи всякими лекарствами и повезли в психиатрический центр (из которого она вскоре улетит на свободу), а я сидела рядом с ней в карете “Скорой помощи”, были: “Во всем виновата Фелисити”, Фелисити погубила ее, Эйнджел, погубит и меня.

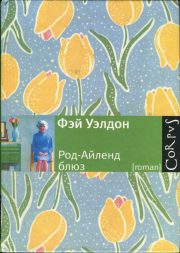
"Род-Айленд блюз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Род-Айленд блюз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Род-Айленд блюз" друзьям в соцсетях.