Вирджиния Эндрюс
Рассвет
Мама однажды рассказала мне, что она и папа назвали меня Дон,[1] потому что я родилась с восходом солнца. Это одна из тысяч выдумок, которые мама и папа еще расскажут мне и моему брату Джимми. Конечно, мы еще долго не должны были знать, что это выдумки, до того дня, когда они пришли, чтобы увезти нас…
Глава 1
Опять новое место
Меня разбудили звуки выдвигаемых и задвигаемых ящиков шкафа. Я слышала, как мама и папа перешептывались в своей комнате, и мое сердце забилось чаще и громче. Я прижала руку к груди и повернулась, чтобы разбудить Джимми, но он уже сидел на софе. Лицо моего шестнадцатилетнего брата, освещенное серебряным лунным светом, казалось высеченным из гранита. Он сидел тихо и прислушивался. Я тоже прислушалась к ненавистному свисту ветра в щелях и трещинах нашего маленького коттеджа, который папа нашел для нас в Грэнвилле, маленьком, провинциальном городке за окраинами Вашингтона. Мы пробыли здесь едва четыре месяца.
– Что это, Джимми? Что происходит? – спросила я, дрожа и от холода, и от того, что в глубине души я знала ответ.
Джимми откинулся спиной на подушку и закинул руки за голову. Он мрачно уставился в темный потолок. Звуки за стеной стали более лихорадочными.
– Мы хотели завести здесь щенка, – пробормотал Джимми. – А этой весной мама и я собирались посадить огород и вырастить наши собственные овощи.
Я чувствовала его раздражение и гнев, как жар, исходящий от чугунного радиатора.
– Что случилось, Джимми, – прошептала я скорбно, потому что у меня тоже были свои заветные планы.
– Папа пришел домой позднее обычного, – произнес Джимми. – Он ввалился с дикими глазами. Ну ты знаешь, какими огромными и яркими они иногда бывают. Он ввалился сюда, и вскоре они начали упаковывать вещи. Так что мы можем вставать и одеваться. – Джимми откинул одеяло и сел. – Они вот-вот войдут и скажут, чтобы мы собирались.
Я застонала. Опять – и опять посреди ночи.
Джимми перегнулся, чтобы зажечь лампу возле нашей кровати, и начал натягивать носки, чтобы не ступать голыми ногами на холодный пол. Он был так подавлен, что даже не подумал о том, что одевается прямо передо мной. Я откинулась и наблюдала, как он расправляет свои штаны и поспешно одевает их. Все происходило словно во сне. Как бы я хотела, чтобы это так и было.
Мне было четырнадцать лет, и сколько я себя помнила, мы все время упаковывались и распаковывались, переезжая из одного места в другое. Как только мой брат Джимми и я устраивались в новую школу, наконец обзаводились друзьями и я начинала привыкать к учителям, мы должны были снова уезжать. Может быть, как всегда говорил Джимми, мы и в самом деле не лучше бездомных цыган, бродяг, беднейших из бедных, потому что даже бедные семьи имели место, которое они могли назвать своим домом, место, в которое они могли вернуться, если дела пойдут плохо, место, где у них есть бабушки и дедушки, или дяди и тети, чтобы обнять и приютить их, дать возможность снова чувствовать себя хорошо. Мы бы даже поладили с кузенами. Во всяком случае, я бы поладила.
Я откинула одеяло, и моя ночная рубашка упала, обнажив часть моей груди. Я взглянула на Джимми и поймала на себе его взгляд. Он быстро отвел в сторону глаза. От смущения мое сердце забилось, и я прижала ладонь к лифу ночной рубашки. Я никогда не говорила моим школьным подругам, что Джимми и я живем в одной комнате и спим на одной ветхой кровати. Я слишком стеснялась этого, понимая, как они будут реагировать на это, а мы с Джимми будем чувствовать себя еще более неловко.
Я опустила ноги на холодный, словно лед, голый деревянный пол. Мои зубы стучали. Обхватив себя руками, я поспешно пересекла маленькую комнату, чтобы взять блузку, свитер и джинсы, и пошла в ванную одеться.
Джимми уже закрывал свой чемодан, когда я вышла из ванной. Кажется, каждый раз мы что-нибудь оставляли. Уж столько места было в старом папином автомобиле. Я сложила свою ночную рубашку и аккуратно уложила ее в мой собственный чемодан. Замки как всегда были такими тугими, что Джимми должен был помочь мне.
Дверь папиной и маминой спальни открылась, и они вышли, держа в руках чемоданы. А мы стояли со своими чемоданами и смотрели на них.
– Почему мы опять должны уезжать посреди ночи? – спросила я, глядя на папу и размышляя, почему отъезд делает его злым, ведь мы делаем это так часто.
– Лучшее время для поездки, – промямлил папа. Он взглянул на меня с немым приказом не задавать слишком много вопросов. Джимми был прав – у папы снова был тот дикий неестественный взгляд, от которого у меня по спине пробегала дрожь. Я ненавидела, когда у папы был такой взгляд. Он был красивым мужчиной с резкими чертами лица, шапкой каштановых волос и черными, как угли глазами. «Если когда-нибудь я влюблюсь и решу выйти замуж, мой муж будет таким же красивым, как папа», – мечтала я. Но я ненавидела, когда папа был не в духе – когда у него появлялся этот дикий взгляд. Его красивое лицо искажалось и становилось уродливым – и мне было невыносимо видеть это.
– Джимми, снеси чемоданы вниз. Дон, помоги маме упаковать то, что она хочет взять на кухне.
Я взглянула на Джимми. Он был на два года старше меня, но внешне мы очень различались. Брат был высокий, стройный и мускулистый, как папа. Я была маленькая с лицом фарфоровой куколки, как говорила мама. На нее я была совсем не похожа, мама была такой же высокой, как папа. Она говорила мне, что в моем возрасте была долговязой и неуклюжей и до тринадцати лет походила на мальчишку, а потом неожиданно расцвела.
У нас было мало семейных фотографий. У меня была единственная фотография мамы: когда ей было пятнадцать. Я могла часами сидеть и рассматривать ее лицо и искать наше сходство. На снимке она стояла под плакучей ивой и улыбалась. На ней были прямая, до лодыжек юбка и пышная блузка с оборками на рукавах и воротничке. У нее были длинные темные волосы, мягкие и блестящие. Даже на этой старой черно-белой фотографии ее глаза сверкали надеждой и любовью. Папа говорил, что сделал это снимок маленькой камерой, которую он купил за четверть доллара у своего друга. Он не был уверен, что она исправна, но все же эта фотография получилась. Если у нас когда-либо и были другие фотографии, то они затерялись во время переездов.
Однако даже на этой простой старой черно-белой, выцветшей фотографии с обтрепанными краями мама была такой хорошенькой, что было понятно, почему папа сразу же потерял от нее голову, хотя в то время ей было всего пятнадцать лет. На снимке она была с босыми ногами и выглядела такой свежей, невинной и милой, какую только и могла предложить природа.
У мамы и Джимми были одинаковые вьющиеся черные волосы и черные глаза, у обоих был бронзовый цвет лица и прекрасные белые зубы, что позволяло им улыбаться ослепительной улыбкой. У папы были темно-каштановые волосы, а мои были белокурыми. И на щеках у меня были веснушки. Ни у кого больше в нашей семье веснушек не было.
– А как же грабли и лопаты, которые мы купили для огорода? – спросил Джимми, стараясь скрыть малейшую надежду.
– У нас нет места, – отрезал папа.
«Бедный Джимми», – подумала я. Мама рассказывала, что он родился скрюченным, словно сжатый кулак, глаза его были плотно закрыты. Она говорила, что родила Джимми на ферме в Мерилэнде. Они только что прибыли туда и искали какую-нибудь работу, когда ее «работа» началась. Я родилась тоже в дороге. Родители надеялись произвести меня на свет в больнице, но были вынуждены оставить один город и отправиться в другой, где папе уже была обещана новая работа. Весь день и всю ночь они были в пути.
– Мы находились между нигде и никуда, и тут вдруг тебе неожиданно приспичило появиться на свет, – говорила мне мама. – Твой папа остановил грузовичок и сказал: «Ну, Салли Джин, давай опять». Я перелезла в кузов грузовика, где у нас были старые матрасы, и, когда взошло солнце, ты родилась. Я помню, как тогда пели птицы. Я смотрела на них, когда ты вступала в этот мир, Дон. Вот почему ты так прелестно поешь. Твоя бабушка всегда говорила, что то, на что смотрит женщина перед самыми родами, во время родов или сразу после родов, станет определяющим в характере будущего ребенка. Самое скверное, когда беременная женщина смотрит на мышь или крысу.
– А что тогда произойдет, мама? – спросила я, сгорая от любопытства.
– Ребенок будет ябедой и трусом.
Я так и села от изумления, когда она мне сказала все это. Мама унаследовала так много мудрости. Поэтому я много размышляла о ее семье, которую никогда не видела. Я хотела знать больше, но было трудно заставить маму и папу рассказывать об их жизни в ранние годы. Я полагаю, это потому, что они были болезненными и трудными.
Мы знали, что оба они выросли на маленьких фермах в Джорджии, где их родные с трудом перебивались, кое-как зарабатывая на нищенское существование на крохотных клочках земли. Оба они родились в больших семьях, которые жили в жалких развалюхах. В них не было места для новобрачных, очень молодой супружеской пары, уже ожидавшей появления на свет своего первенца. Так и началась история нашей семьи – с разъездов, которым до сих пор не было конца. Мы снова были в пути.
Мы с мамой собрали в картонку кухонную утварь, которую она хотела взять с собой, и папа погрузил ее в машину. Потом мама положила руку мне на плечо, и мы обе бросили последний взгляд на эту скромную маленькую кухню.
Джимми стоял в дверях и наблюдал. Его глаза превратились из озер печали в черные озера гнева, когда папа пришел нас поторопить. Джимми обвинял его в нашей цыганской жизни. Иногда мне казалось, что, может быть, он не был прав. Папа отличался от других людей – он был более непоседливым, более нервным. Я никогда не говорила этого, но я ненавидела, когда по дороге домой с работы, он останавливался у бара. Тогда он обычно возвращался домой в дурном настроении, становился у окна и смотрел в него, словно ожидая чего-то ужасного. Никто из нас не смел заговорить с ним, когда он пребывал в таком настроении.

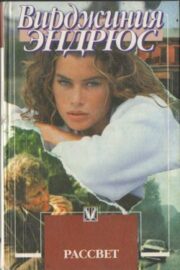
"Рассвет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Рассвет". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Рассвет" друзьям в соцсетях.