Когда-то давно мама закончила художественное училище, но по специальности работать не пришлось — еще на втором курсе она вышла замуж, а когда защищала диплом, уже ждала появления дочери, и потом, после послеродового отпуска, так и осталась домохозяйкой. Теперь все те же друзья семьи тщетно старались устроить ее на работу. По-видимому, работа, которую они для нее находили, так же мало интересовала ее, как и все остальное, потому что очень скоро ее увольняли по сокращению штатов, а сама она не выражала ни расстройства по поводу сокращения, ни желания найти что-то другое. Жила семья на пенсию, которую дети получали за отца, и на помощь друзей, которую мама принимала с обычным выражением равнодушной отчужденности от всего, теперь навсегда застывшей в ее глазах. А когда появлялась хоть какая-то, даже самая маленькая проблема, в глазах матери появлялось отчаяние, и звучал тот самый вопрос в никуда:
— Что же делать?
Начинал ли подтекать кран, отклеивались ли обои, отрывалась ли в очередной раз подошва у ботиночек маленькой Риты, заболевал ли кто-то из детей, мама бессильно опускалась в кресло и ни на что не могла решиться.
Оля понимала маму. Если бы не драмкружок, она, может быть, и не сумела бы вынести потерю отца. Только на репетициях она забывала о своем горе, отдаваясь чувствам героинь, которых играла. Теперь ее и Вику забирали после занятий всегда Викины родители, и самым тяжелым моментом было вечернее возвращение домой. По мере приближения к дому хорошее настроение, поднятое удачной игрой, похвалой руководителя, падало. Оля не вызывала лифт, она шла пешком, медленно, как на эшафот, в квартиру, кажущуюся пустой и холодной, где больше не было веселья и смеха, тепла и любви, где мама либо невидящим взглядом смотрела в телевизор, не обращая внимания, какая там идет программа, либо растерянно вглядывалась в фотографию отца, что означало: опять возникла проблема, которую ни мама, ни Оля решить не смогут, и, значит, опять прозвучит вопрос, которым задавалась без конца и сама Оля, когда у нее возникали свои, детские трудности, и с которыми она всегда раньше шла к отцу: «Что же делать?»
Помогал, в общем-то, и теперь отец, даже когда его не стало.
Его друзья так ценили и любили их отца, что не забывали о его семье, даже когда прошло уже много времени со дня его гибели, хотя забыть о людях, которые на заботу о себе ничего не могут дать взамен, было бы делом вполне обычным. Они дали Оле свои телефоны, и она звонила им в любое время, и они приезжали. Но все равно все было не так, и Оле безумно не хватало отца, той атмосферы, что, как оказалось, создавал именно он. После школы она вообще редко ходила домой, шла в гости к Вике, где девочки готовили уроки, а после вместе отправлялись в драмкружок. А вечером она быстро проскальзывала через гостиную, которая раньше была излюбленным местом сбора семьи и в которой теперь сидела мама, олицетворяющая собой одиночество. Рассказывать маме о том, как прошел день, все больше отдаляющейся в мир прошлого, не хотелось. Да она и не интересовалась, как раньше, и ни о чем не спрашивала, даже о том, почему Оля не приходит после школы домой. У Оли теперь была своя комната, которая раньше была кабинетом отца, и там она могла поплакать. А потом боль притупилась. В отличие от мамы, у Оли было и настоящее, а не только прошлое. И она сумела со временем как-то привыкнуть к потере отца, и, если сердце ее не смирилось, разумом она поняла: всегда хорошо не бывает, мир полон неожиданных бед и несчастий, от которых ты ничем не защищен. Но смириться было трудно — она помнила, что такое счастье, покой и защищенность.
А у Риты этой раздвоенности не было. Она из-за своего возраста легче остальных отреагировала на смерть отца. Когда ей сказали, что папа разбился, она, подумав, произнесла:
— Я говорила ему, чтобы держался крепко, там же высоко, — и сделала печальный вывод: — Значит, мишку он не привезет.
Как-то она упала с каруселей и расшибла себе лоб, ее возили в больницу, зашивали небольшую ранку и заставили пролежать три дня, опасаясь сотрясения мозга, поэтому следующий ее вопрос был для нее естествен:
— А скоро он придет домой?
Что такое смерть и почему папа не придет никогда, она не понимала и сначала ревела и требовала, чтобы он пришел и уложил ее спать. Но он не приходил. Мама вместо того, чтобы, как раньше, обнять ее и утешить, только растерянно разводила руками и уходила из комнаты, а старшая сестра, пытающаяся вместо родителей уложить ее спать, ревела сама. Когда слезы иссякали, Рита все-таки засыпала и уже через неделю научилась засыпать сама, без сказок, объятий и поцелуев. Ее отдали в детский сад. Все те же друзья отца, и правильно сделали. Здесь были веселые дети, заботливые воспитательницы. Они хоть как-то любили и жалели ее, в отличие от равнодушной мамы, и, когда ей исполнилось четыре и она узнала, что в их детском саду есть такая группа, в которой детишки остаются и на вечер, и на ночь, она сама попросилась, чтобы ее оставляли, как их. И ее отдали на пятидневку. Ей там нравилось больше, чем дома, и, в отличие от многих малышей, которые плакали ночами и просились к родителям, занятым какими-то более важными, чем дети, делами и бросающими их на попечение государства, Рита иногда плакала, когда ее забирали домой на выходные. Трое оставшихся членов семьи все сильнее отдалялись друг от друга. И в выходные, когда Рита оказывалась дома, она сначала скучала, а потом научилась развлекать сама себя, сидя в своей комнате и играя в игрушки. Годы, проведенные с папой, она забыла напрочь. Ей казалось, что в их доме всегда и было так, и она росла без Олиной тоски по человеку, который может помочь. Она росла в детском коллективе, где нужно было уметь постоять за себя, не рассчитывая на помощь старших, где обращение к воспитателям за защитой называлось обидным словом «ябеда», а каралось еще сильнее, где царствовали свои детские законы, иногда похожие на законы маленьких зверенышей. Рита уже к пяти годам была самостоятельной, ни в ком не нуждалась и способна была позаботиться о себе сама.
Мама все больше уходила в свой мир, подолгу пропадала на кладбище, где был похоронен отец. Дети от нее ничего не требовали, и она часто даже забывала приготовить еду, когда Рита бывала дома. Рита в таких случаях не хныкала, она топала на кухню и сама находила, что поесть. Оля обычно дома отсутствовала, фактически живя у Вики, и в свои одиннадцать-тринадцать лет не участвовала в жизни сестренки.
Отношения между сестрами начались неожиданно, когда Оле было четырнадцать, а Рите шесть. В Олины обязанности входило забирать сестренку из садика в пятницу вечером. Оля приводила ее домой и быстро куда-нибудь уходила. В этот вечер мамы дома не оказалось, и хотя Рите часто приходилось оставаться дома одной днем, бросить же ее вечером Оля, которая сама боялась вечерами пустой квартиры, как-то не решилась. Они сидели, каждая по своим комнатам. Оля учила новую роль, Рита играла в игрушки, когда внезапно отключили электричество. Оля, которая дома и при свете неуютно себя чувствовала, испугалась, когда осталась в темноте, показавшейся ослепительной после света. Все страхи и кошмары, которые мучили ее ночами, во сне, идущие из подсознания от чувства незащищенности, нахлынули на нее наяву. Ольга почти бегом пересекла гостиную и вошла в детскую комнату скорее даже не потому, как она себя уверяла, чтобы не оставлять наедине с таким же страхом маленькую сестру, а потому, что она сама отчаянно не хотела быть одна.
Ту картину, которую она ожидала застать — забившуюся в угол и плачущую от страха малышку, она не увидела. В комнате было даже как-то уютно: на полу стоял серебряный подсвечник, в котором горели три зажженных витых свечи. Рядом сидела Рита, перед ней на кровати сидели игрушки: мишка, кукла, Буратино. Рита вслух читала им книжку. Увидев сестру, Рита читать перестала.
— Я воспитательница, — объяснила она. — А это — дети.
Оля удивилась тому, что Рита сделала то, что не догадалась сделать она сама, — зажгла свечи, хотя видела их ежедневно, проходя мимо них. Они стояли в гостиной на пианино. На пианино раньше, давным-давно, в другой жизни, точнее, три года назад, любила играть мама. А свечи зажигали, когда были праздники, когда стихало бурное веселье, надоедал резкий свет, хотелось отдохнуть. Мама садилась за пианино, начинала петь. Сначала она пела одна свою любимую песню, из которой Оля помнила сейчас уже не все слова. Но были там такие:
Казалось, плакать бы о чем,
Мы очень правильно живем.
Но иногда под вечер, иногда под вечер.
Мы вдруг садимся за рояль,
Снимаем с клавишей вуаль
И зажигаем свечи…
Голос у мамы был чистый, красивый, и, может быть, оттого, что песня была грустной, Оле хотелось плакать, но это быстро проходило, потому что сначала начинал подпевать отец, а потом все остальные, и песни чередовались — со всем веселые, детские, которые требовала Оля, и взрослые. От одной веяло свежим воздухом желанного будущего, когда Оля тоже станет взрослой, когда начнет сбываться то, о чем ей часто говорил отец, о чем он говорил ей в последний их разговор: у нее будет своя жизнь, она тоже станет уезжать, но у нее останется дом, где ее всегда будут ждать и любить и куда она будет возвращаться.
Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома,
Снова между нами города,
Дальние огни аэродрома…
Оля, сидевшая обычно около отца, слышала его голос, и ее немного пугало, как это она окажется далеко от теплоты и уюта дома. Но песня была о надежде и о радости, и Оля, тогда еще не совсем понимающая смысла слов, думала, что это надежда на возвращение домой и радость от того, что вернешься, тем более что песня кончалась словами:
А песни довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось…

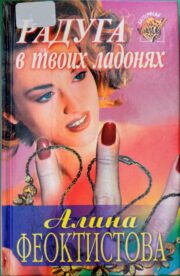
"Радуга в твоих ладонях" отзывы
Отзывы читателей о книге "Радуга в твоих ладонях". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Радуга в твоих ладонях" друзьям в соцсетях.